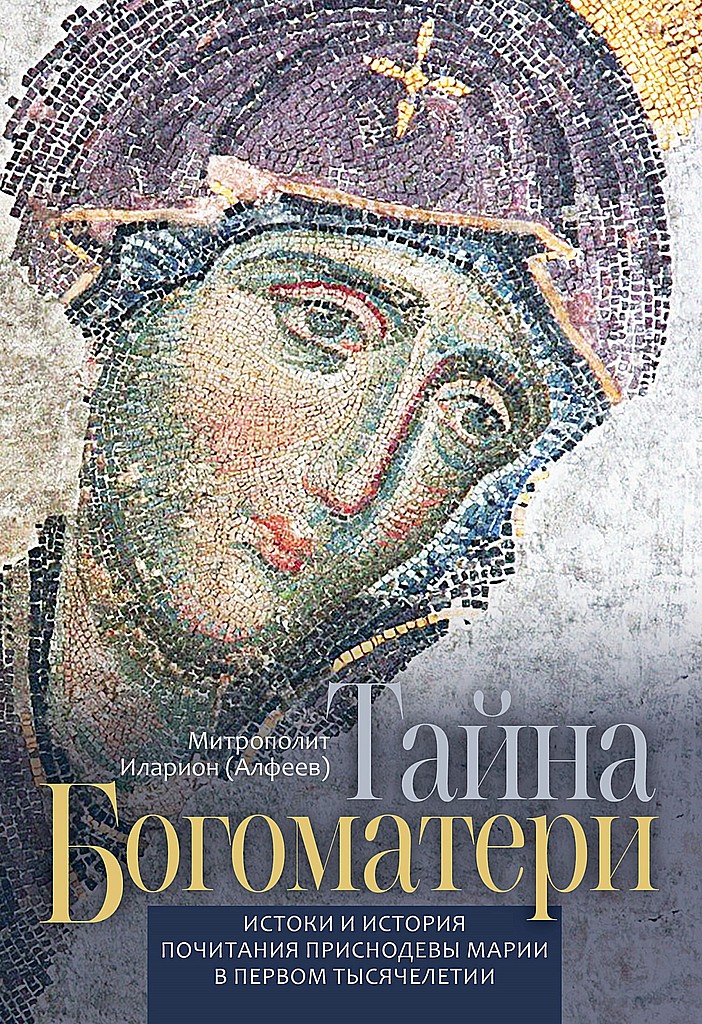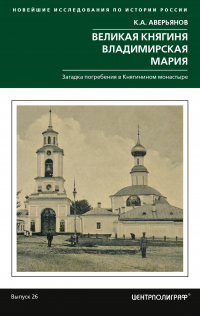Шрифт:
Закладка:
Виктор Сергеевич Розов – известнейший советский писатель и драматург, автор более 20 пьес и киносценариев, в том числе сценария одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне – «Летят журавли».В июле 1941 года Виктор Розов добровольцем вступил в 8-ю дивизию народного ополчения Краснопресненского района г. Москвы. Эта дивизия сражалась с немцами на подступах к Москве, на знаменитом Бородинском поле. В своей книге В.С. Розов рассказывает об этих боях, также как о других событиях военного периода. Его мемуары – правдивый рассказ о добровольцах-ополченцах, наспех обученных и плохо вооруженных, попавших в невероятно тяжелые условия на фронте, – будто «нырнувших в ледяную купель», по словам Розова. Многие из них погибли, ценой своей жизни спасая Москву.