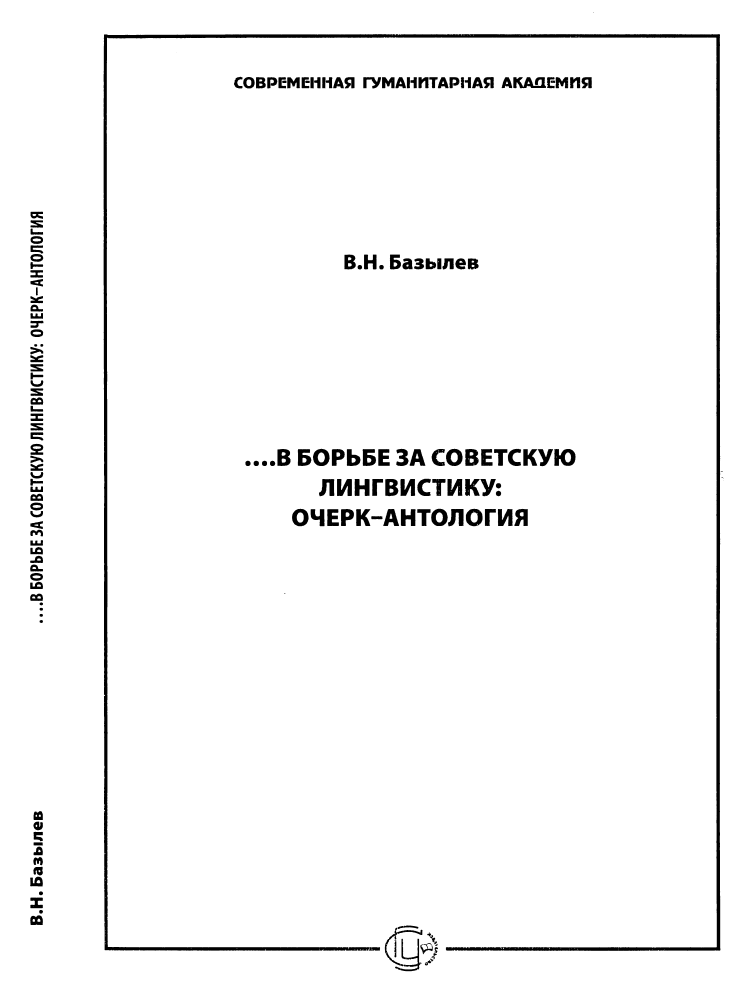Шрифт:
Закладка:
Книга является тематическим продолжением антологии «Сумерки лингвистики» (М., 2001); охватывает историю советской лингвистики в 1950 – 1990 гг. второй половины XX века. Книга состоит из монографического очерка по истории отечественной лингвистики второй половины XX века и собственно антологии, содержащей отрывки из теоретических работ ведущих советских языковедов, из журнальных и газетных публикаций, воспоминаний, бесед, а также из хроникальных заметок той эпохи. Книга предназначена для студентов филологических специальностей – в качестве учебного пособия по курсу «История языкознания XX века»; для студентов факультетов психологии, журналистики, социологии, истории и др. гуманитарных направлений – в качестве дополнительного дидактического материала.