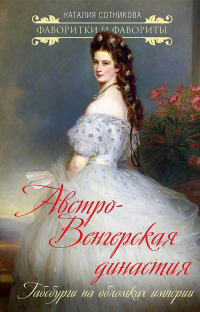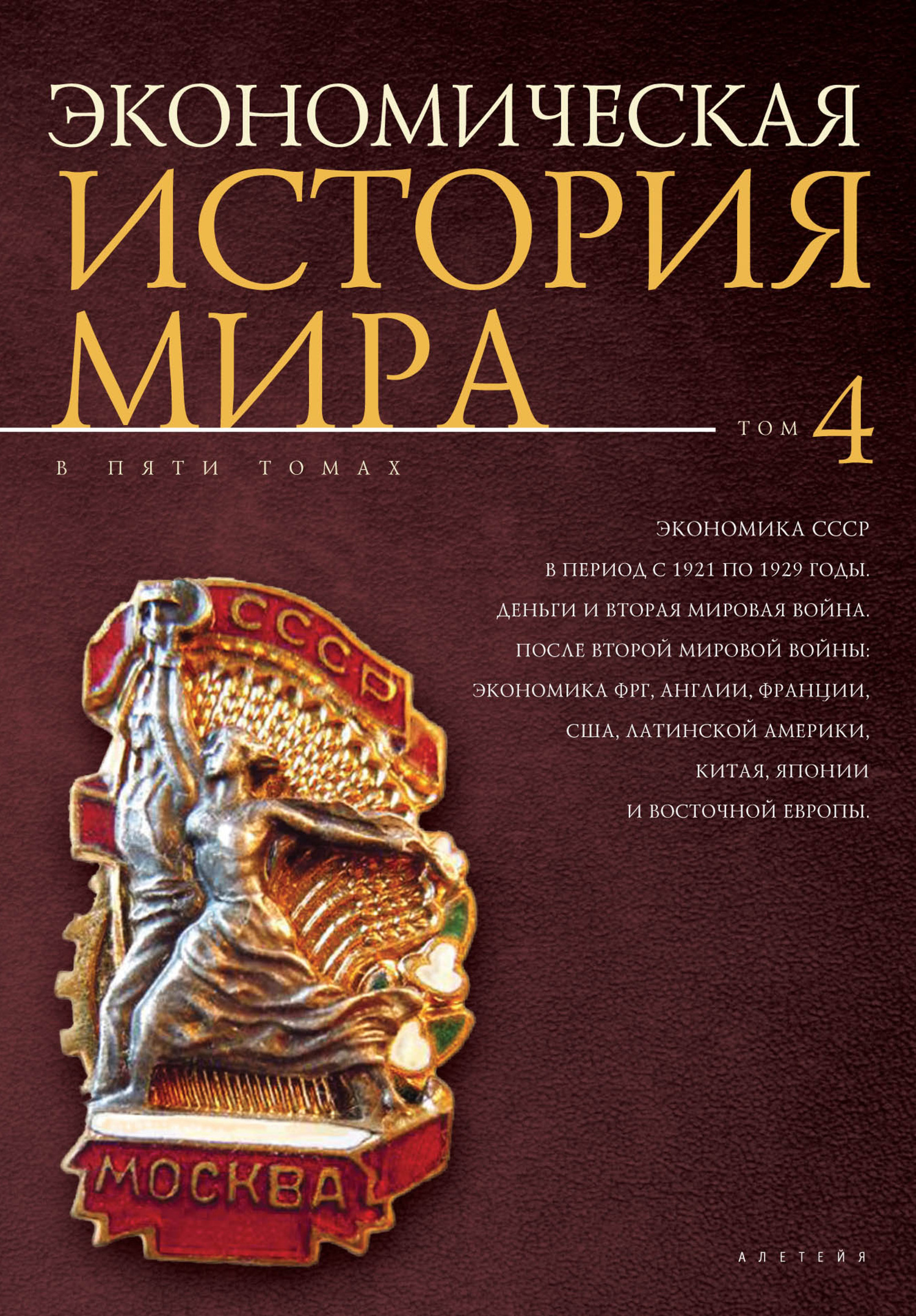Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Отныне в великолепном синодике давно явленных на русском языке знаменитых романов, созданных писателями «потерянного поколения» — Ремарком, Олдингтоном, Хемингуэем — встанет с ними рядом и на равных — несправедливо и незаслуженно «пропущенный» роман сербского писателя, солдата Первой мировой, Милоша Црнянского. Роман, в котором почти документальное повествование распахивается глубиной и многозначностью художественного полета; роман, в котором автор и его главный герой сходятся и расходятся, двоятся, троятся, множатся. Роман, в котором открыто прочитываются факты биографии и тайно — то, что фактами не всегда можно объяснить…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Милош Црнянский»: