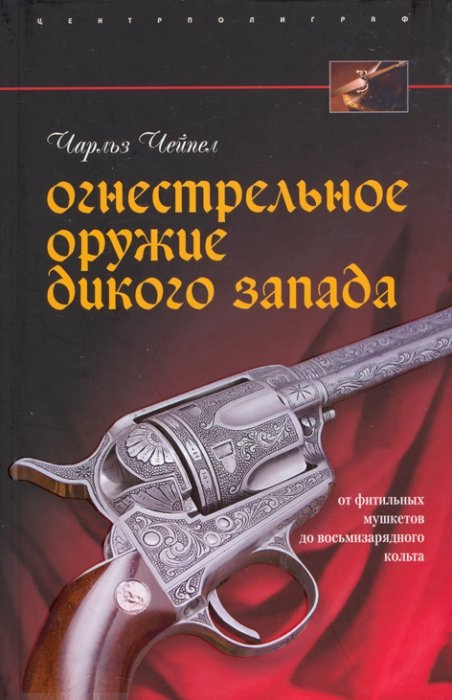Шрифт:
Закладка:
Русская литература, написанная женщинами, сравнительно недавно стала полноценным и легитимным объектом изучения в отечественной филологии. Ирина Савкина была одной из первых исследовательниц, обратившихся к анализу феномена женского творчества в российской культуре и взявших на себя труд разработать необходимый для этого научный инструментарий. Настоящее издание представляет собой собрание избранных статей автора, написанных в 1998–2020 годах и посвященных критическому переосмыслению различных жанров русской женской литературы: прозы, поэзии, мемуаристики. Сборник не только знакомит читателя с научными достижениями автора, но и дает представление о круге проблем и вопросов, которые были и остаются актуальными предметами дискуссий в русскоязычных гендерных исследованиях. Ирина Савкина — доктор философии университета Тампере (Финляндия), кандидат филологических наук.