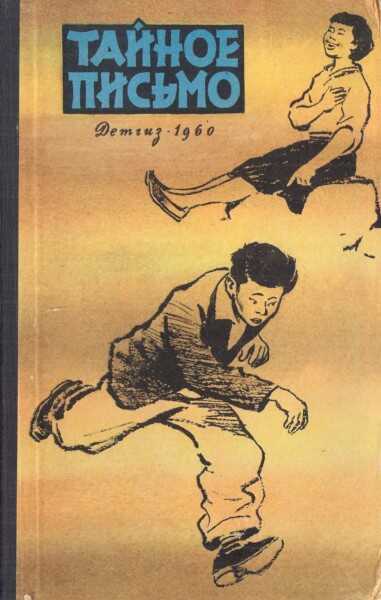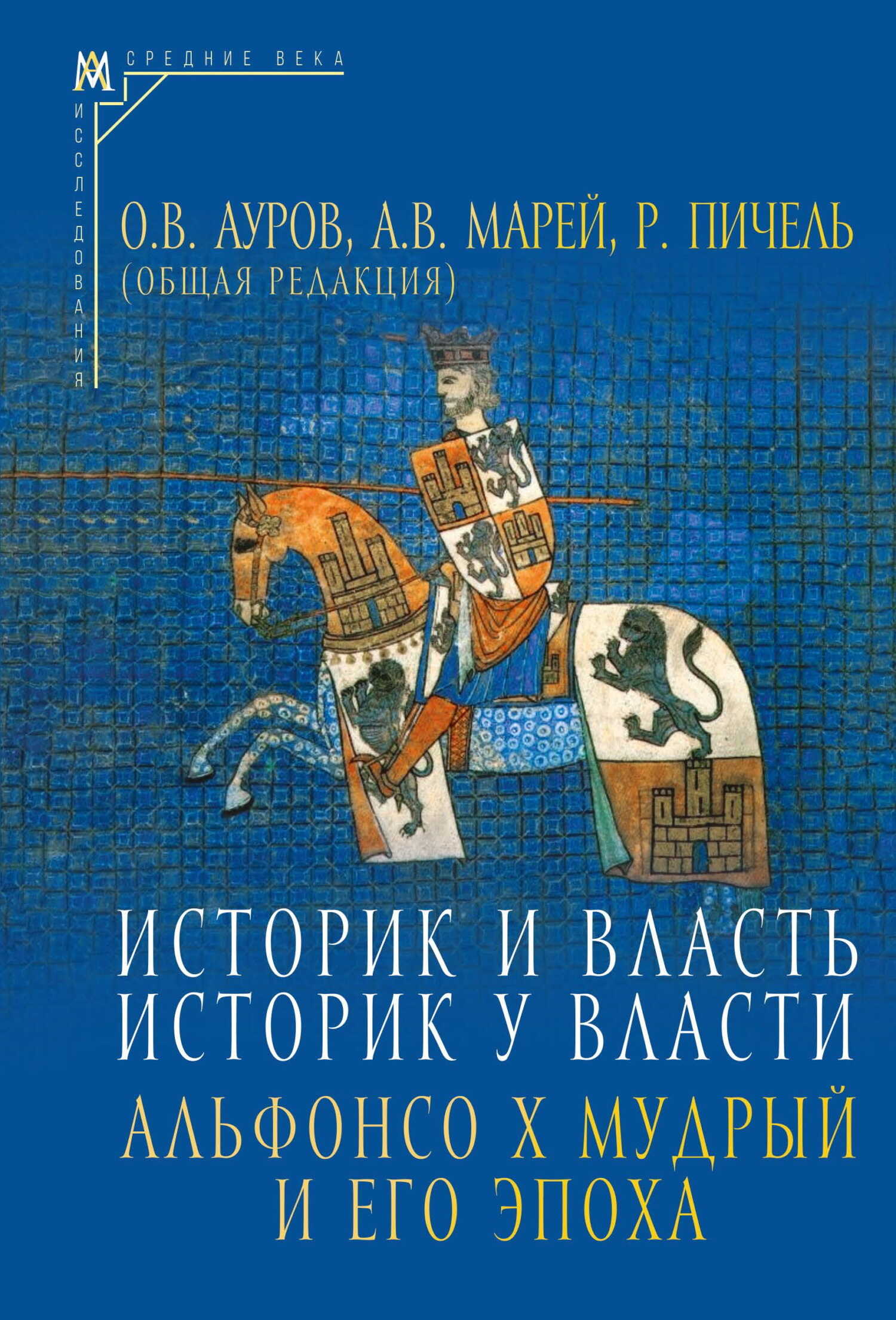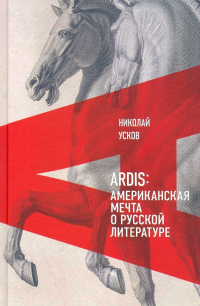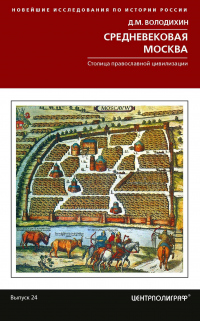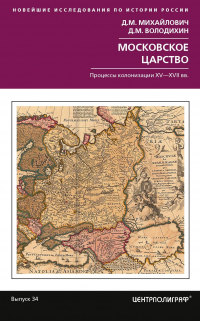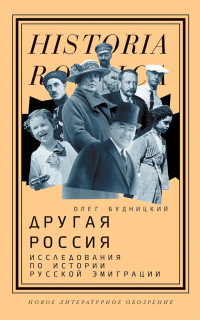Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Цель настоящего издания — представить читателю наиболее интересные и важные выступления американских писателей о литературе с XVII по XX век. Двухтомник дает широкую панораму развития романтизма и реализма в США, отражает борьбу против антигуманистических, модернистских концепций, школ и теорий. В настоящее издание включены материалы сборника статей «Писатели США о литературе», выпущенного в 1974 году. Книге предпослана вступительная статья, характеризующая вклад ведущих писателей США в развитие литературно-критической мысли.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Коллектив авторов»: