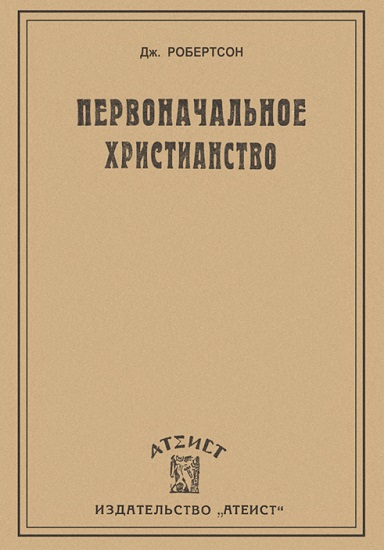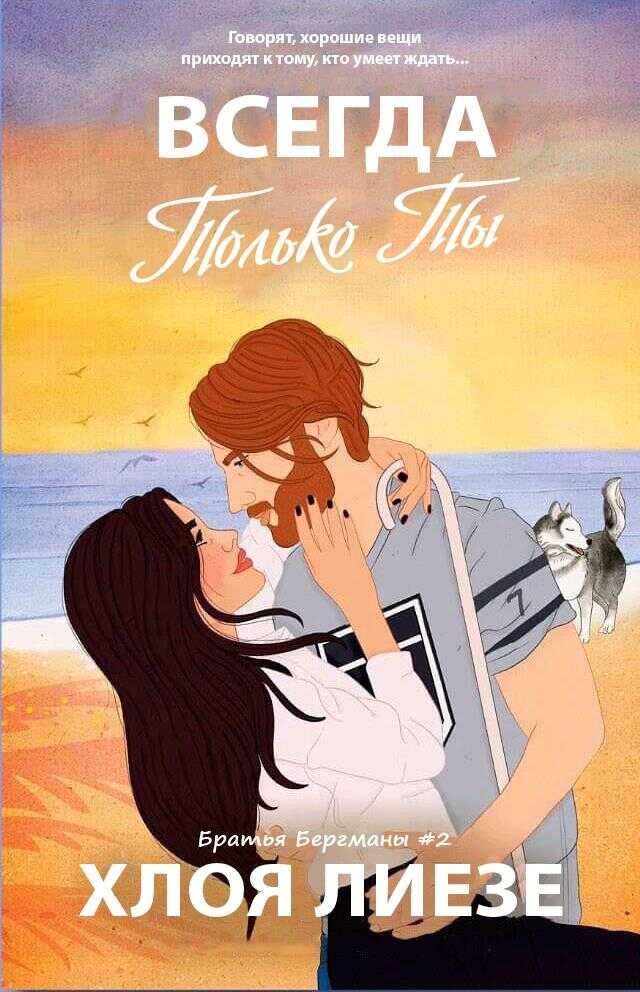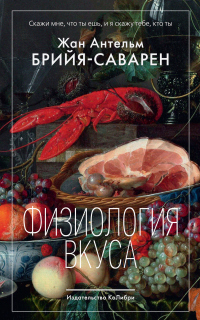Шрифт:
Закладка:
Брюнина мама запрещала ему со мной дружить. Она полагала, что я плохо на него влияю. Но он всё равно со мной дружил. Хоть и тайно.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Я НЕ ПОЭТ, НО СКАЖУ СТИХАМИ
У меня никогда не было прозвища. Оно и понятно. С такой фамилией и кличка не нужна. Курилко – так меня и называли все. По имени ко мне обращались только двое – Брюня и мама. Мама ещё ,когда бывала в хорошем расположении духа, ласкала мой слух нехитрой рифмовкой: «Алёшенька, волчонок. Мой миленький ребёнок». А вот будучи в плохом настроении, мама не жалела обидных эпитетов. Тут тебе и «сволочь такая», и «гнида тифозная», и «папино отродье».
Зато в школе кое-кто величал меня поэтом. Не скрою, мне это льстило. Ведь я был уверен – мне суждено прославиться. Я только всё никак не мог определиться: в каком качестве мне осчастливить мир и обогатить страну – поэта, писателя или артиста.
Многие в школе знали меня и – что удивительно – ценили как поэта-самородка. Я даже стал получать от старшеклассников ни больше, ни меньше – заказы на стихотворные признания в любви. Я-то полагал, что лирика – не мой жанр, но старшеклассники оставались довольны, потому что их девушки млели от моих сочинений, полагая, что это сочинили их парни. А парни, я так понимаю, получали благодаря моим стихам то, что желали получить, или, во всяком случае, облегчали себе задачу. Были постоянные заказчики; были, так сказать, одноразовые. Постепенно, со временем, сама собой установилась твёрдая такса: стихотворение – рубль. По сути, это была золотая пора, когда творчество, точнее сочинительство, приносило мне реальный заработок. Я и сейчас не зарабатываю столько денег литературой.
А ведь стихи-то были плохонькими. Да и не стихи это были вовсе. Так, рифмованная лабуда вроде:
«Перед сном все мысли о тебе.
Просыпаюсь – думаю о том же.
Ты теперь одна в моей судьбе.
Гложет…»
Или вот ещё одно помню:
«Пусть небо усеяно звёздами.
Оля, поверишь, не сплю.
Лишь шепчу, хотя время и позднее:
Я люблю тебя, Оля. Люблю.
Кавалерам твоим я всем в лоб давал.
Сашке Лобову выбил окно.
Ведь любовь не проходит, я пробовал…
А тебе до сих пор всё равно».
Что именно пробовал лирический герой этого стихотворения, чтобы прошла любовь, – неизвестно.
Соль стиха была в том, что это был акростих. То бишь из первых букв каждой строчки складывалось имя или фамилия. В данном случае – Полякова.
В общем, моя литературная карьера начиналась с откровенной халтуры. Стихов для души, не за деньги, я почти не писал. Это меня беспокоило. Я – чистая детская душа – переживал о том, что продаю свой талант. И что это скверно. Я продаю, то есть предаю высокое звание поэта.
Однажды меня даже подключили к идеологической работе.
Дело было так. Светлана Кравченко, ученица шестого класса, обменяла свой пионерский значок на пачку жевательной резинки. Об этом узнали. Был страшный скандал. Меня попросили написать об этом проступке для школьной стенгазеты. Так сказать, пригвоздить к столбу позора.
Я согласился. Хотя мне это решение далось нелегко. Противоречивые чувства играли моей душой, как мячиком, в пинг-понг. С одной стороны, я гордился возложенной на меня миссией. Ну как же! Хулигана и троечника попросила написать стихи сама завуч – гроза всех учеников и многих учителей. А с другой стороны - Света Кравченко была сестрой моего одноклассника, и она была весёлой и красивой, я не хотел её обижать.
Лично я нисколько не осуждал Светин поступок. Он был понятен мне.
Одним словом, я впал в грех конформизма. Не устоял. Позор мне, позор…
Моё короткое четверостишие было полно сарказма и «праведного гнева»:
«На жвачку посмела сменять
Значок пионерский! Изменница!
Корове приятней жевать,
Чем быть пионером и ленинцем.
Другой бы сгорел от стыда.
Духовная мразь и уродина.
Вот так и бывает всегда:
Сегодня – значок, завтра – Родина».
Я вспомнил этот случай не ради шутки-юмора. Просто я никогда не забывал об этом маленьком падении. Правда. Я осознавал, что поступил низко. И меня, помню, долго беспокоило недовольное ворчание хилой малолетней совести. Время, конечно, залечило эту рану, но шрамик остался.
Вы скажете, что это ерунда. Сущий пустяк. Подумаешь. Может, вы и правы. Пустяк. Но, как говорится в одном несмешном анекдоте, осадок остался.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
В ЭПИСТОЛЯРНОМ ЖАНРЕ
В восемьдесят шестом году бабахнул Чернобыль. В день, когда простому народу наконец-то решили об этой катастрофе сообщить, я был в школе на продлёнке. Мы играли на улице.
За мной прибежал соседский мальчишка – Саша Куренной, сказал, что моя мама просит срочно вернуться домой. У него была записка от мамы к учительнице.
Мы отправились домой. По дороге он рассказал мне, что где-то в Чернобыле на атомной станции случилась авария, и теперь нам всем грозит какая-то радиация. И что она уже накрыла весь Киев, и что она невидима, и мы прямо сейчас её вдыхаем.
День был солнечный, яркий. Ничто кругом ни о какой радиации не говорило.
Я пришёл домой. Мама сказала, что сегодня на улицу я не пойду.
Хотя было жарко, мама закрыла все окна и форточки.
А за ужином мама налила мне полрюмочки красного вина.
- Это полезно от радиации, - сказала она.
На следующий день мне уже было разрешено выходить на улицу.
- Только не копайся в песке, - предупредила мать. – И следи, чтобы Джуля не копала ни песок, ни землю.
Джулька – это наша маленькая собака. Карликовый пинчер. Тогда она была ещё щенком.
Постепенно весть о Чернобыльской аварии растеряла свою актуальность. Во всяком случае, среди детей. Нас волновали более насущные проблемы. К примеру, где достать карбид и что произойдёт, если его бросить в унитаз школьного туалета.
Летом я отправился в Крым, в пионерский лагерь «Альбатрос». На все три месяца. Денег мать не жалела. Ей пришлось влезть в долги. Частично помог отец: мать позвонила ему одному из первых.
Бедная мама провожала меня, как на войну. Я и раньше проводил летние каникулы в пионерских лагерях, но они находились в Киевской области. И по выходным мама меня навещала. А тут я