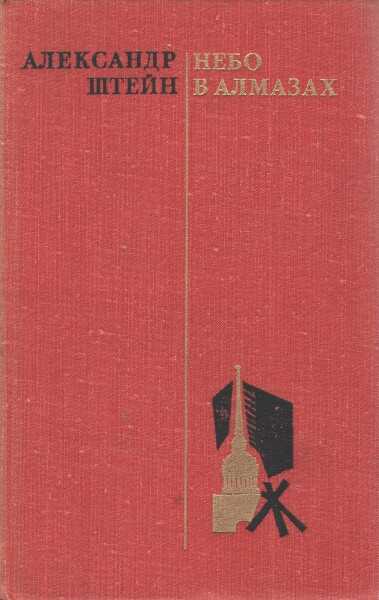Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу вошли документальные повести известного советского драматурга Александра Штейна «Под небом юности», «Вечен огонь нашей памяти», «Мой океан», «Из германских дневников», а также литературные портреты писателей-маринистов Всеволода Вишневского, Бориса Лавренева, Александра Зонина и других.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Петрович Штейн»: