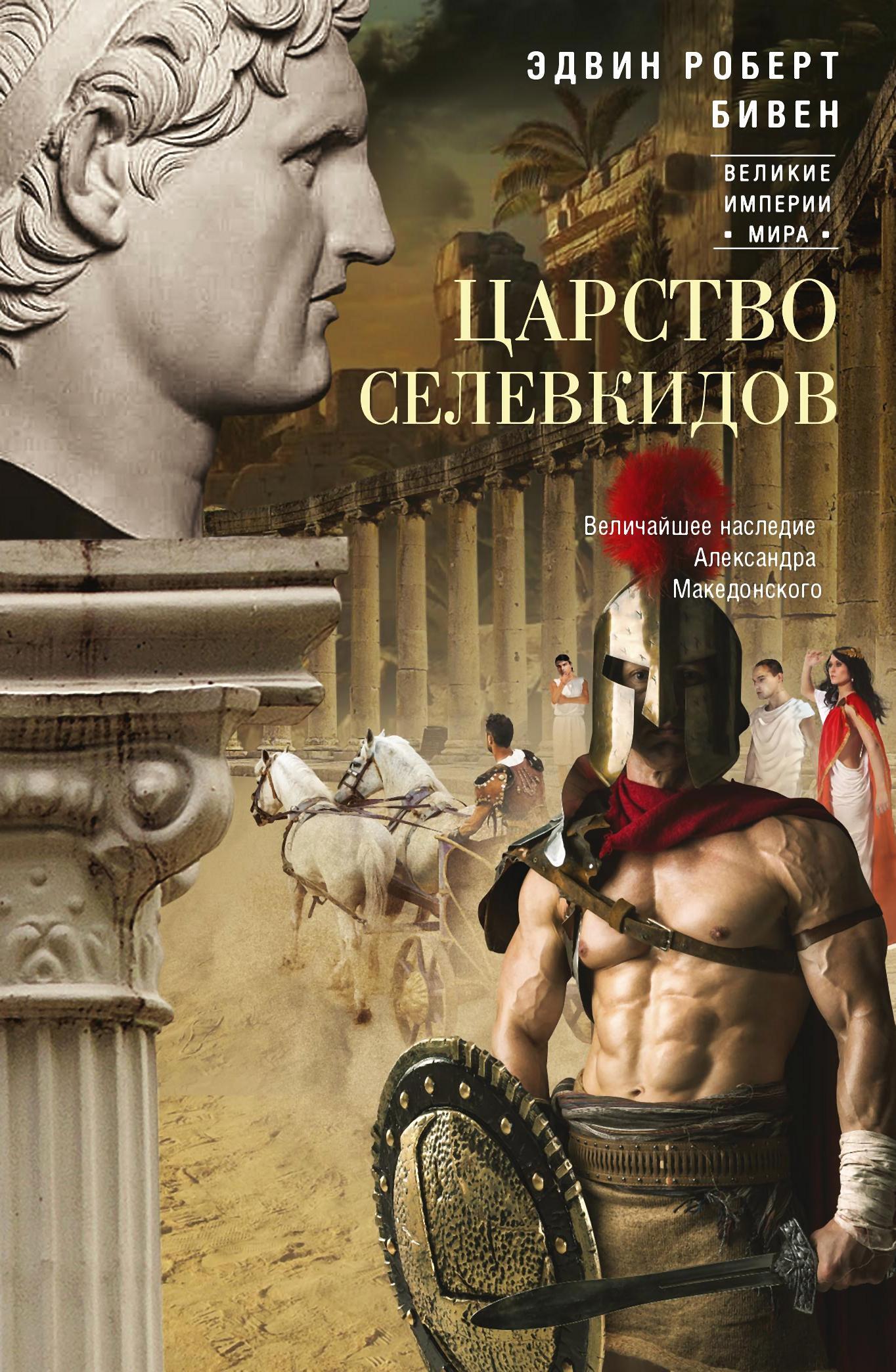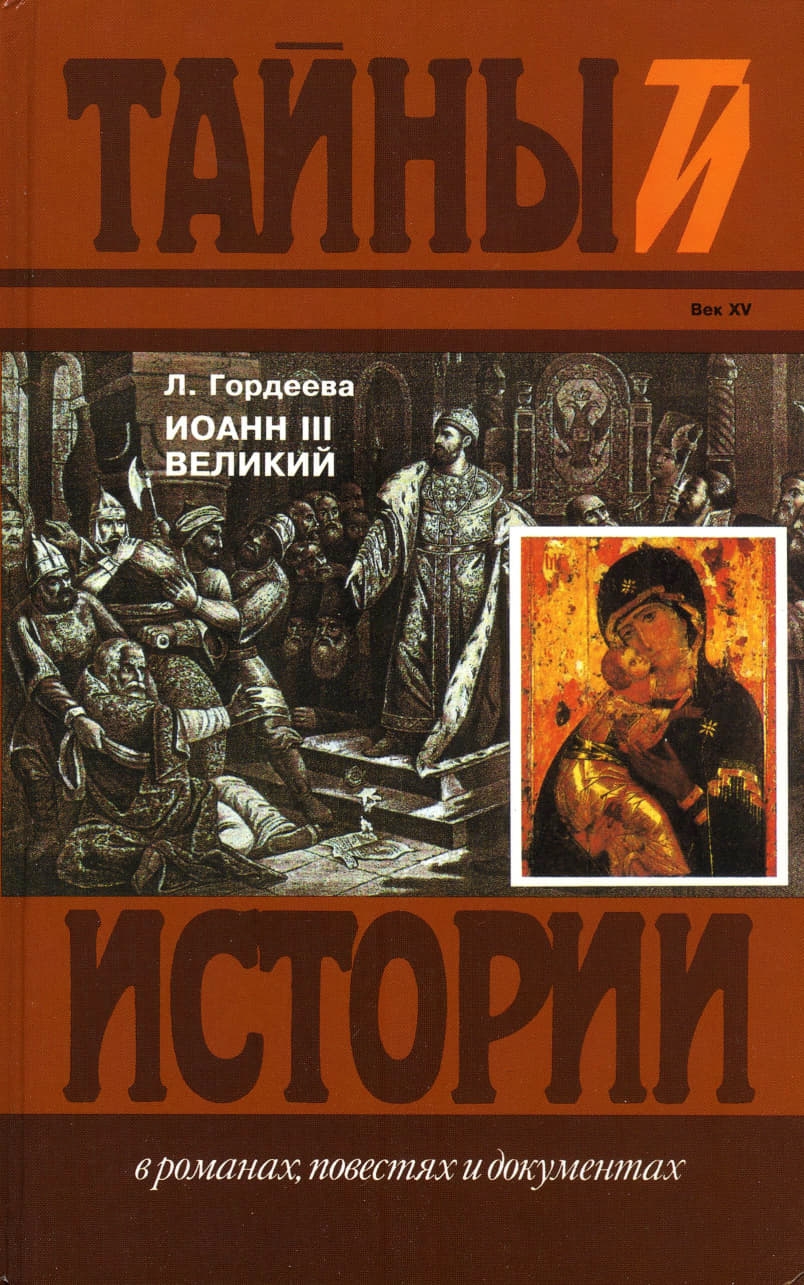Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга Эдвина Роберта Бивена посвяшена истории самого обширного и могущественного государства эллинистического мира, основанного Селевком I Никатором на Ближнем Востоке после распада империи Александра Македонского. Историк рассматривает политическое и административное устройство государства Селевкидов, описывает жизненный путь и свершения его правителей, а также рассказывает о борьбе за власть преемников Александра Великого и их потомков, которая ослабила Сирийское царство и сделала его легкой добычей для Римской республики.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эдвин Бивен»: