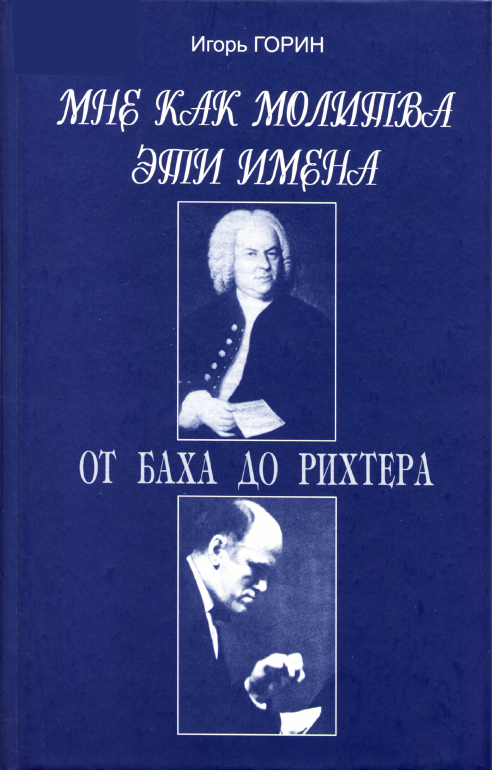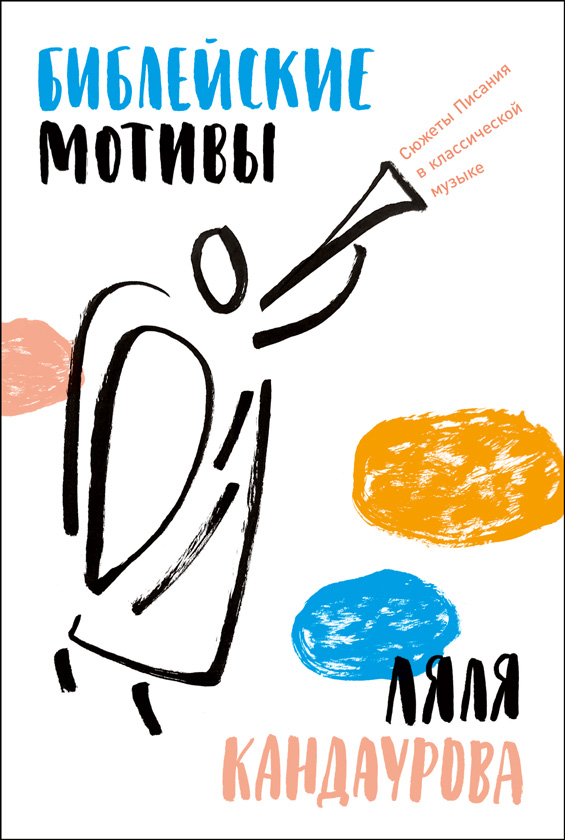Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Игорь Горин — известный музыковед, поэт, мыслитель. Книга о жизни и творчестве выдающихся музыкантов, содержит оригинальные представления поэта-автора, для которого музыка является высшим проявлением человеческого гения. Книга для тех, кто любит музыку.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Горин»: