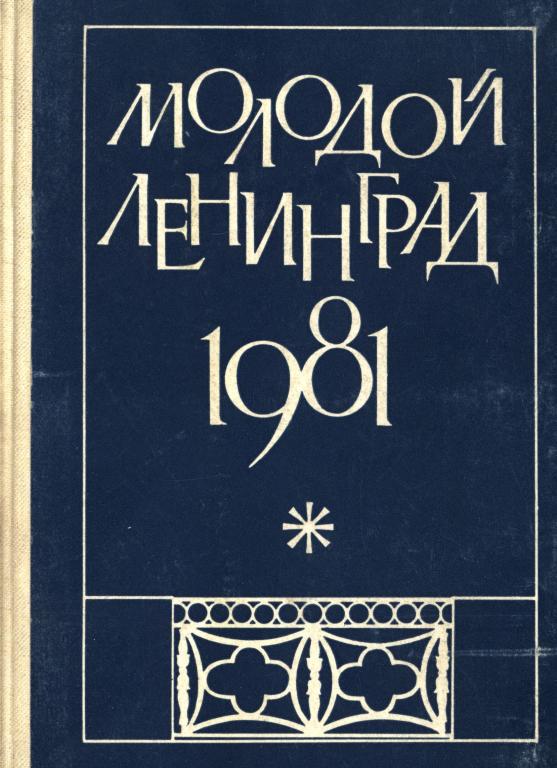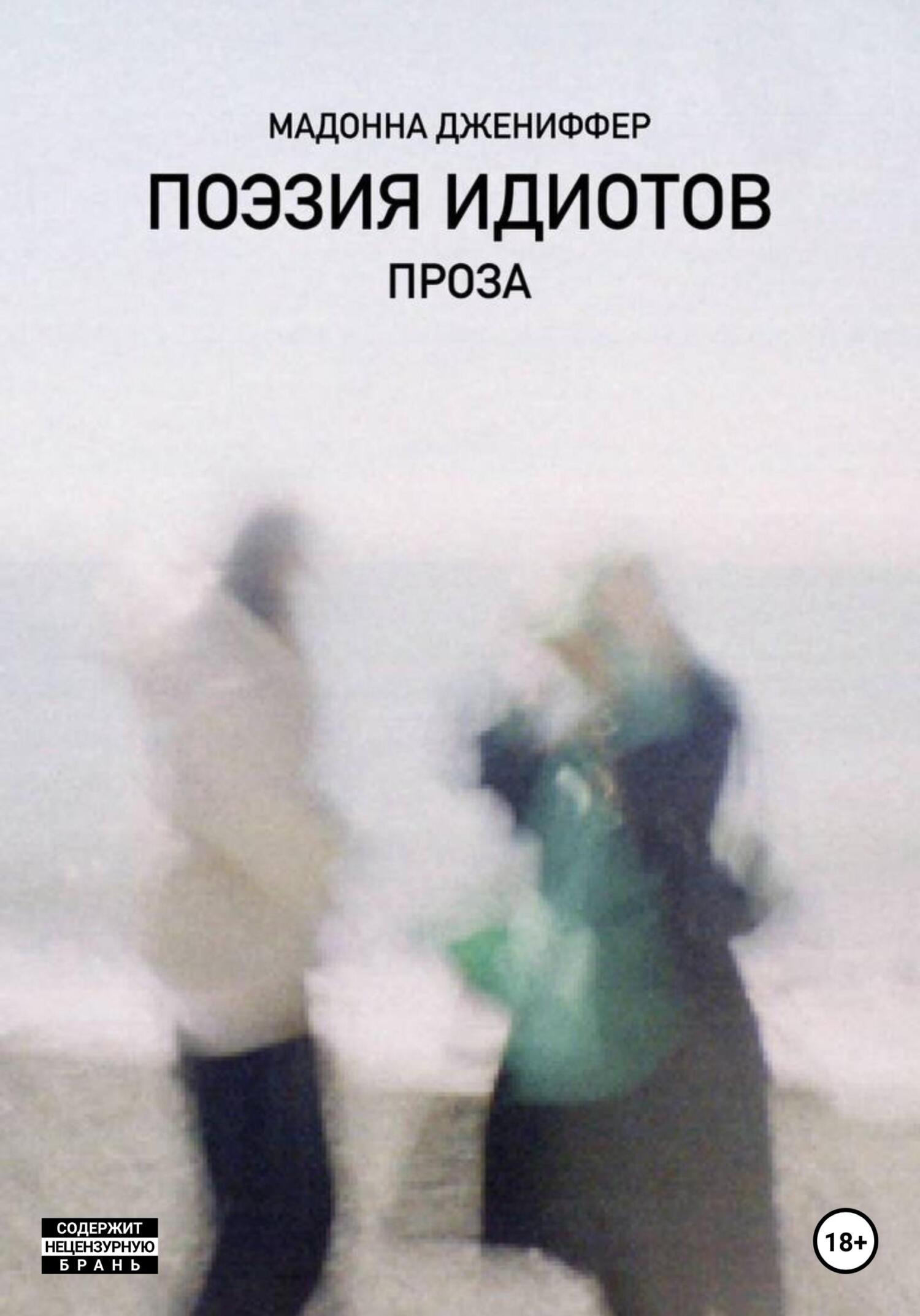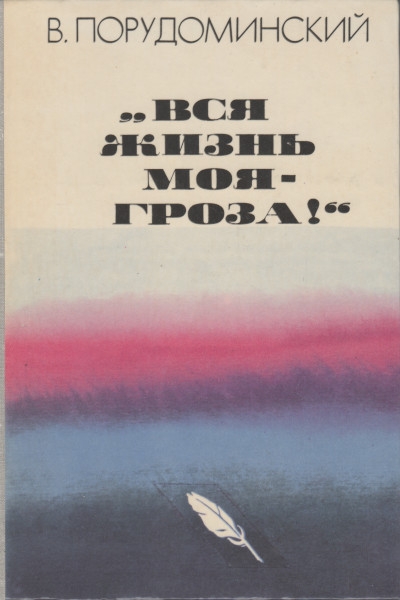Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Страницы этого альманаха предоставлены новым произведениям молодых ленинградских литераторов, только начинающих печататься или подготавливающих первые книги. Это прежде всего участники VII Всесоюзного совещания в Москве (1979) и XVI конференции молодых писателей Северо-Запада (1980). В рассказах, повестях и стихах широко отражается жизнь нашей страны, учеба и труд молодежи, дружба, любовь.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Александрович Приходько»: