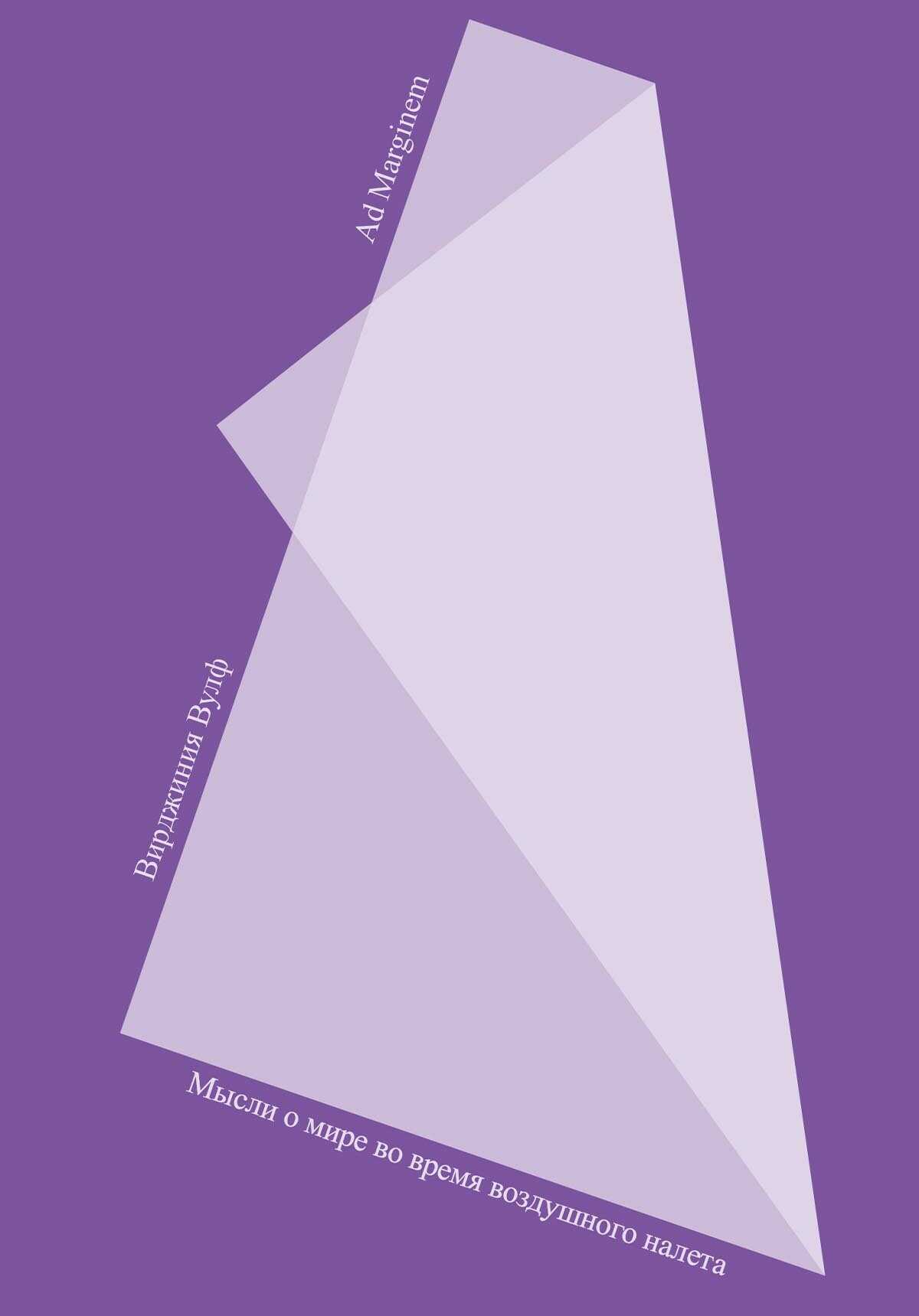Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Волны» – модернистский роман-эксперимент, в котором минимум «внешней» событийности лишь подчеркивает и обрамляет напряженную внутреннюю жизнь персонажей, ведущих в воображении непрерывный разговор с самими собой.«Флаш» – очаровательная повесть-шутка, в которой биография супружеской пары прославленных поэтов Элизабет Баррет и Роберта Браунинга описана через призму жизни и приключений верного друга и любимца Элизабет – песика Флаша.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вирджиния Вулф»: