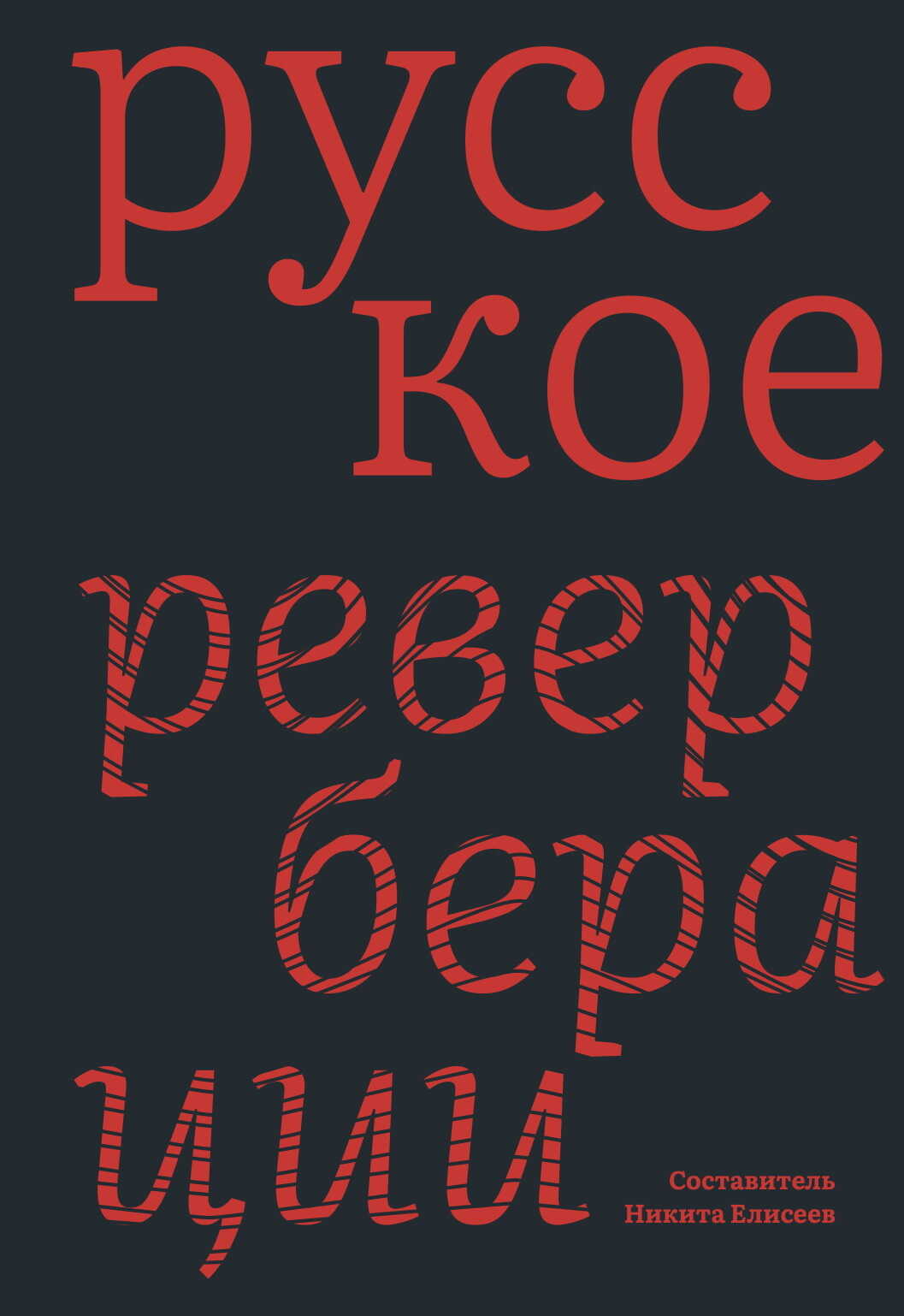Шрифт:
Закладка:
– Ну-у! – обиделась Варвара. – Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет!..
Липа запела тихо, но немного погодя забылась и опять:
– Вырастешь большой-ой, большой, мужи-ик будешь, вместе на поденку пойдем!
– Ну-у! Заладила!
Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила:
– Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? – продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. – Кто он? Какой он из себя? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает.
Варвара прислушалась: донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся, и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатила телега быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то…
– Решение прав и всего состояния, – громко сказал он, – и в Сибирь, в каторжную работу на шесть лет.
Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья; она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, в другой – лейку, и во рту у нее были серебряные деньги.
– А папаша где? – спросила она, шепелявя.
– На станции, – ответил работник. – «Ужо, – говорит, – будет потемней, тогда приеду».
И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличие:
– И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьич, соколик ясный…
Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке, изо всей силы напрягая голос:
– Бу-удет тебе, Степанида, бу-удет! Не томи, Христа ради!
Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком.
Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам молча; не ужинал.
– Похлопотать-те некому… – начала Варвара, когда они остались вдвоем. – Говорила я, чтоб господ попросить, – не послушали тогда… Прошение бы…
– Хлопотал я! – сказал старик и махнул рукой. – Как Анисима осудили, я к тому барину, что его защищал. «Ничего, – говорит, – теперь нельзя, поздно». И сам Анисим так говорит: поздно. А все ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил; задаток ему дал… Погожу еще недельку, а там опять поеду. Что бог даст.
Старик опять молча прошелся по всем комнатам, и когда вернулся к Варваре, то сказал:
– Должно, нездоров я. В голове того… туманится. Мысли мутятся.
Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо:
– С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими… И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатыч, все, бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот, бывало, дяденька, как выпьет, то смеется: «Никак, – говорит, – я не разберу, где тут мои дети, а где чужие». Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые.
– Ну вот, бог с тобой!
– Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно, нездоров.
– Что говорить, все под богом ходим… Ох-тех-те… – проговорила Варвара и покачала головой. – Надо б об этом подумать бы, Петрович… Не ровен час, что случится, человек ты немолодой. Помрешь, и гляди, без тебя б внучка не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят! Отца, считай так, уже нет, мать молодая, глупая… Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, Бутёкино-то это, Петрович, право! Подумай! – продолжала убеждать Варвара. – Мальчик-то хорошенький, жалко! Вот завтра поезжай и напиши бумагу. Чего ждать?
– А я забыл про внучка-то… – сказал Цыбукин. – Надо поздороваться. Так ты говоришь: мальчик ничего? Ну что ж, пускай растет. Дай бог!
Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.
– Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай, – сказал он. – И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова… – Он перекрестил ребенка. – И внучка береги. Сына нет, так внучек остался.
Слезы потекли у него по щекам; он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко, после семи бессонных ночей.
VII
Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксинье, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика.
– Не стану я больше работать на вас! – крикнула она громко и вдруг зарыдала. – Выходит, я у вас не невестка, а работница! Весь народ смеется: «Гляди, – говорят, – Цыбукины какую себе работницу нашли!» Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая, есть у меня отец и мать.
Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева; лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы.
– Не желаю я больше служить! – продолжала она. – Замучилась! Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой – так это мне, а как землю дарить – так это каторжанке с ее чертенком! Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Все отдайте ей, арестантке, пусть подавится, я уйду домой! Найдите себе другую дуру, ироды окаянные!
Старик ни разу в жизни не бранил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя