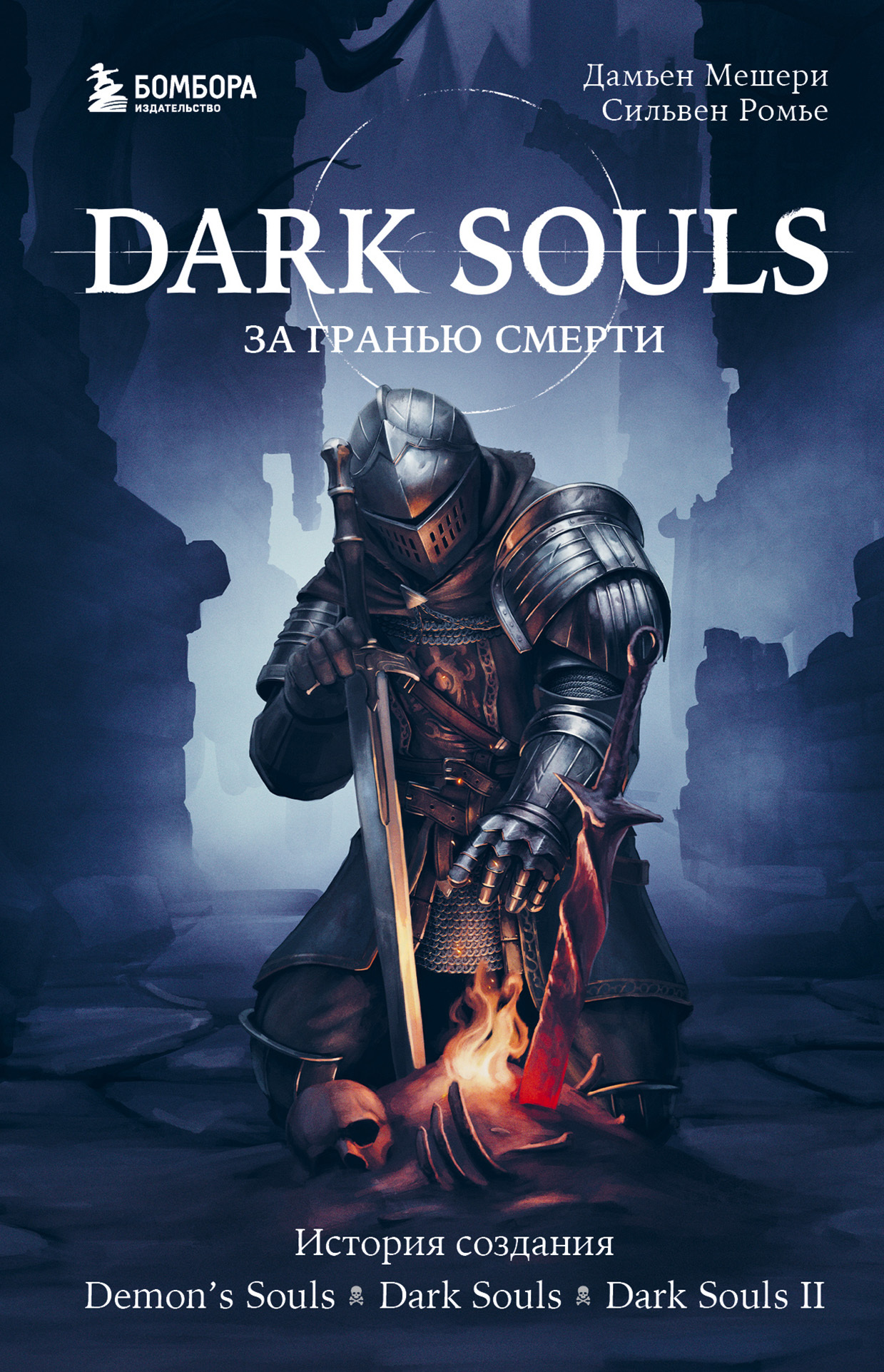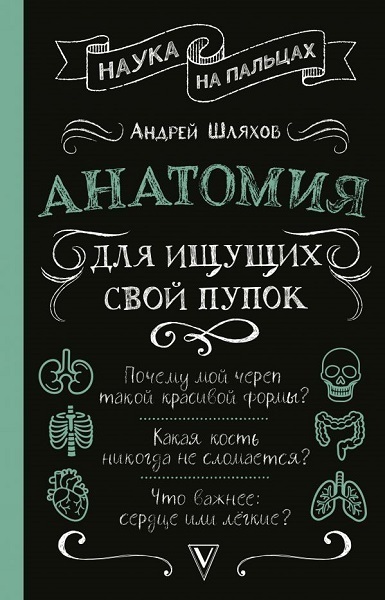Шрифт:
Закладка:
Артур Мэкен – один из самых таинственных писателей конца XIX – начала XX века. В его творчестве воедино сплелись традиции романтики и готики, он стал основоположником литературы о сверхъестественном ужасе, поклонниками его прозы были Оскар Уайльд, Говард Филлипс Лавкрафт, Хорхе Луис Борхес и Гильермо дель Торо. Он как никто повлиял на развитие хоррора и на многих представителей жанра, включая Стивена Кинга, Рэмси Кэмпбелла, Томаса Лиготти и Адама Нэвилла. Его произведения вызывали скандал, они приводили современников в ужас, но восхищают потомков. Писатель, опередивший свое время, заложивший традиции собственной, ни на кого не похожей мистики, Мэкен до сих пор остается, наравне с Лавкрафтом, непревзойденным мастером странных и зловещих историй, где оживают древние боги и существа, где страх может таиться в самых повседневных мелочах, а зеленые леса и долины скрывают чудовищ, неподвластных человеческому воображению и разуму.