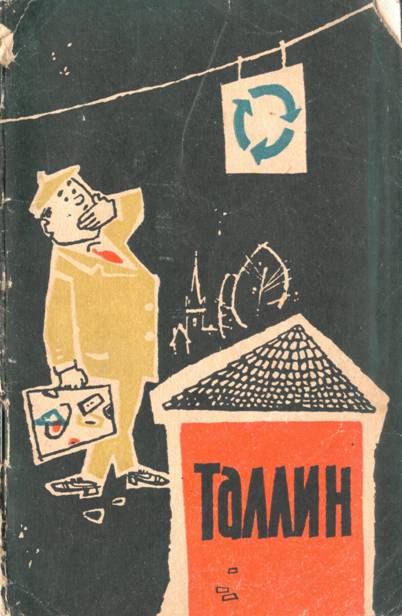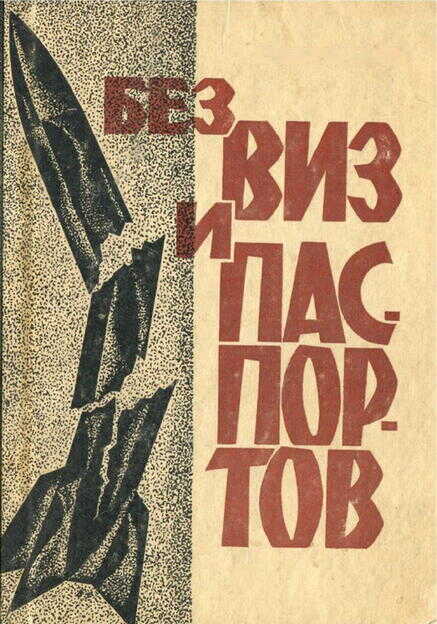Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
На севере Томской области есть остров, ханты всегда называли его Заячьим, но со временем безобидное название забылось, и остров стали называть Назино по наименованию близлежащего посёлка, а с тридцатых годов и вовсе именуют островом Смерти. Это тот самый знаменитый Голодный Остров. В 1933 году на остров выгрузили спецпереселенцев из центральных городов страны — голодных, раздетых, обездоленных, не обеспечив их никакими средствами существования. Несчастные люди утратили человеческий облик, породив трагическую историю, которая не должна повториться.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Галия Сергеевна Мавлютова»: