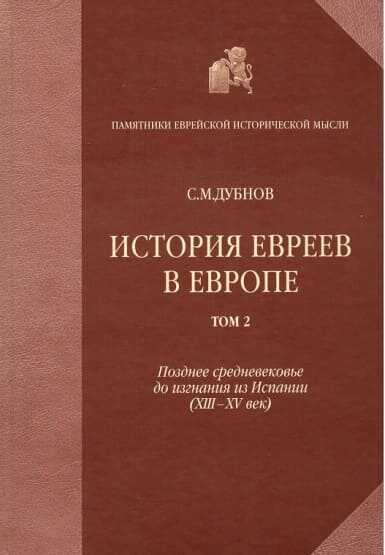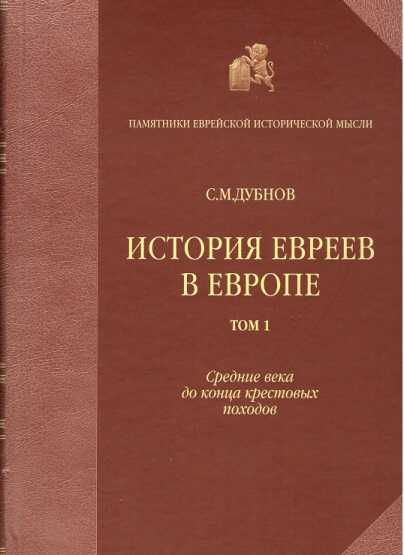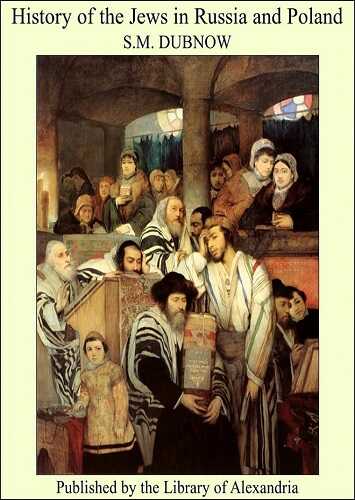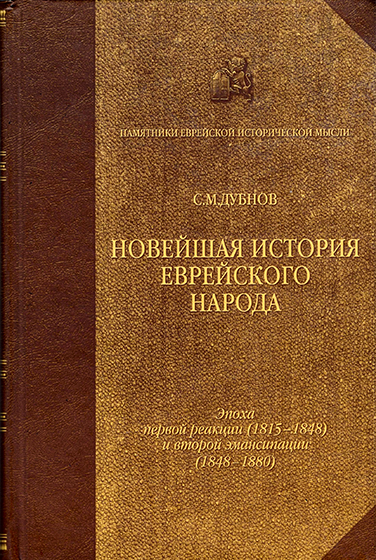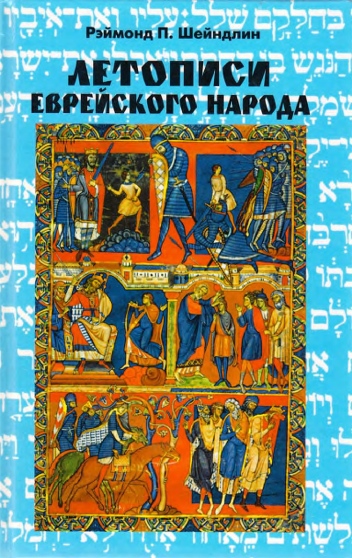Шрифт:
Закладка:
Настоящее издание «Новейшей истории еврейского народа» является в русском оригинале в совершенно новом виде. Этот последний цикл «Всемирной истории еврейского народа» давно уже выделен в отдельную монографию с более подробным изложением событий, чем в предыдущих циклах. В начале 1914 г. появился в Петербурге большой том под заглавием «Новейшая история еврейского народа от 1789 до 1881 года». Последняя дата была предельною, так как не было надежды в царской России свободно печатать историю евреев за последние десятилетия. Это стало возможным после мировой войны и революции, уже за пределами России. В 1923 г. вышли в Берлине русский оригинал и два перевода (немецкий и ивритский) «Новейшей истории» в трех томах, из которых последний том включал эпоху 1881-1914 г. Вскоре стала выходить в Берлине окончательно переработанная «Всемирная история еврейского народа от древнейших времен до настоящего» в десяти томах. Из них в русском оригинале появились только два первых тома (Древняя история), а полностью книга напечатана в авторизованном немецком переводе. Последние три тома этого издания, включающую новейшую историю, были переработаны на основании дополнительного материала из богатых берлинских библиотек, а к концу был прибавлен обширный эпилог: обзор событий от 1914 до 1929 г. Ныне же, когда предпринято полное издание русского оригинала «Всемирной истории еврейского народа» в трех циклах, автор подверг последний цикл новому пересмотру и дополнил его вторым эпилогом, доводящим обзор событий до наших дней. Второй том содержит информацию об эпохе первой реакции (1815-1848) и второй эмансипации (1848-1880). Автор подробно повествует об ухудшении положения евреев после 1815 года, а также юридические преследования евреев в России при Александре I и Николае I и положение евреев в русской армии. Эмансипация евреев в некоторых странах в 1860-70-х годах сменилась ростом политического антисемитизма и волной обвинений в кровавом навете.