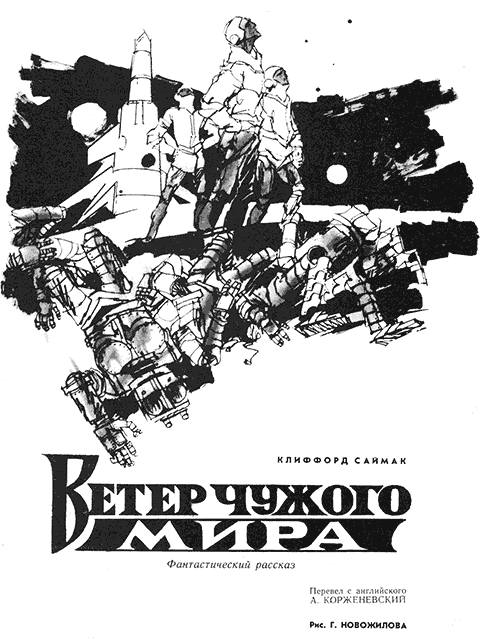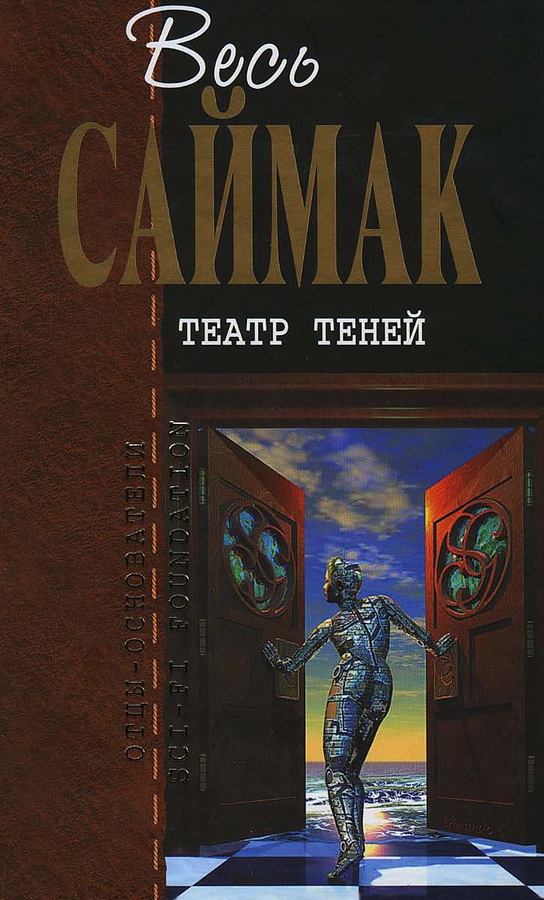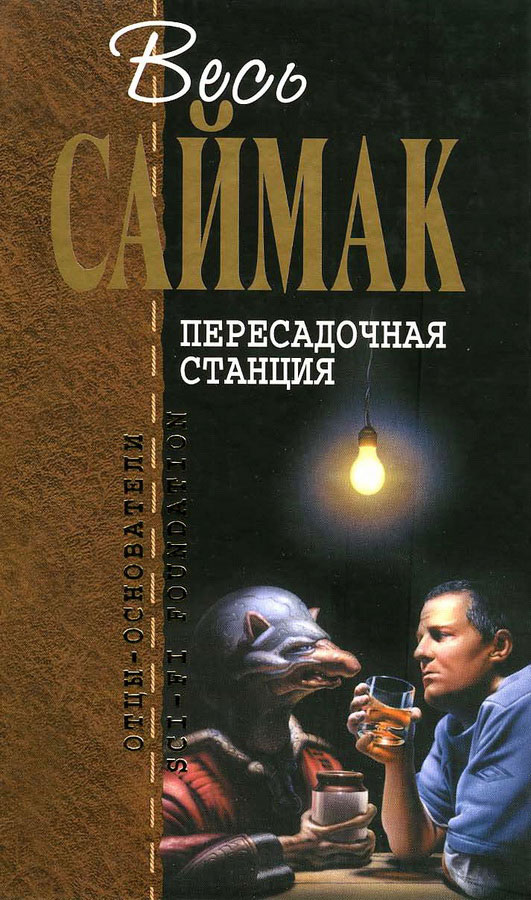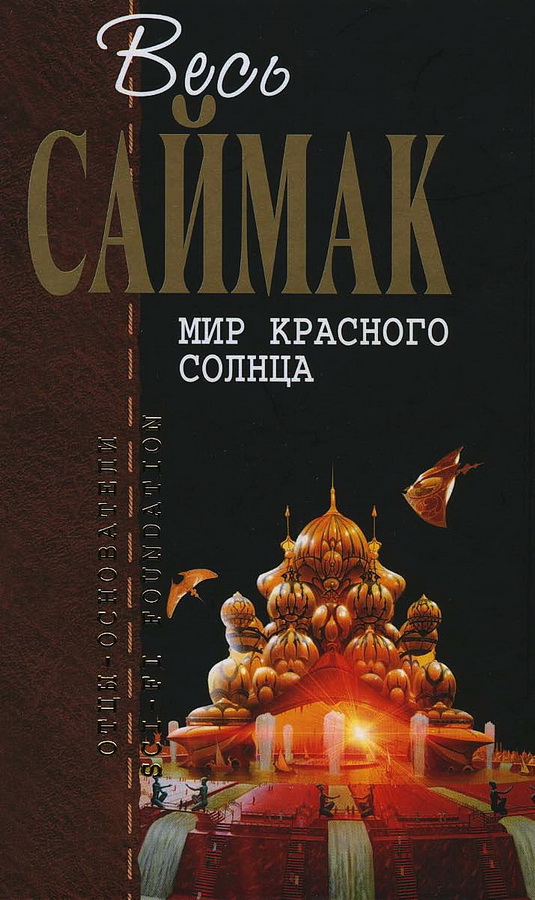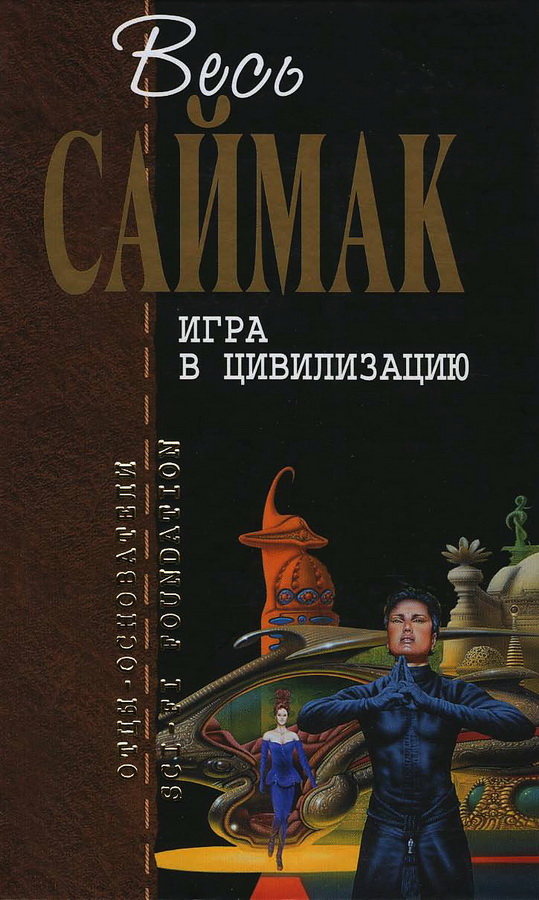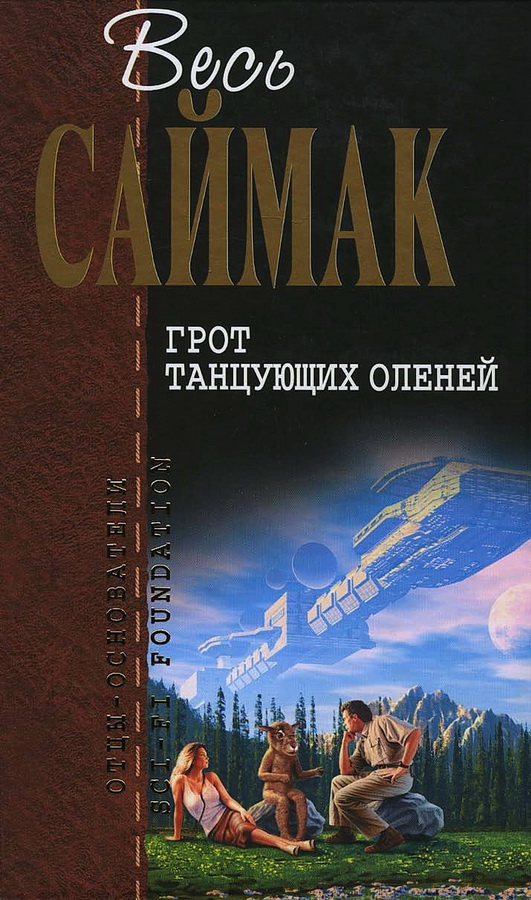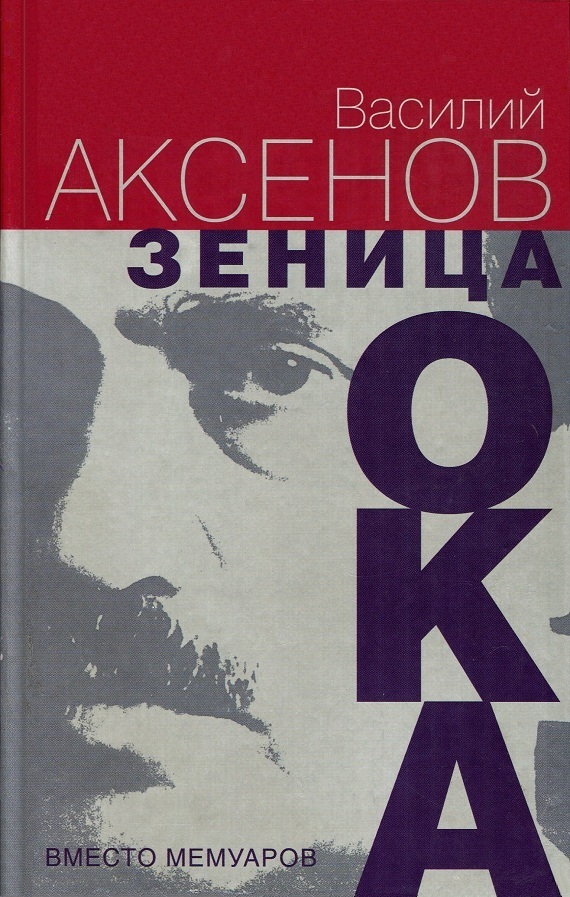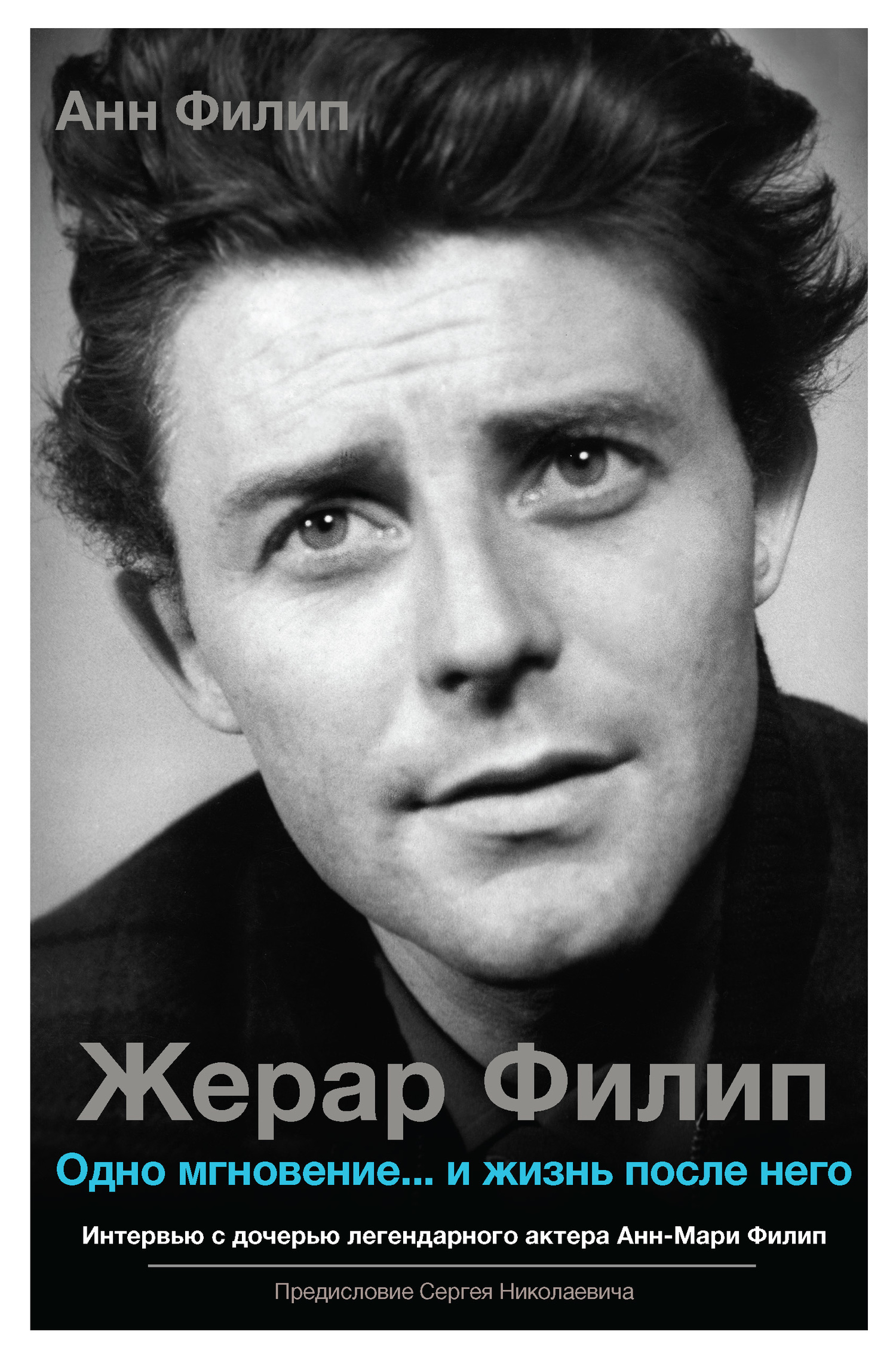Шрифт:
Закладка:
В сборник вошли ранние рассказы Великого Мэтра НФ, но уже в них Саймак создает свой — необыкновенный и тем не менее удивительно похожий на реальный — мир и ставит те проблемы, которые в течение многих последующих десятилетий будут волновать писателя: последствия бесконтрольного развития цивилизации и утрата ее непреходящих ценностей, ответственность каждого человека не только перед собой и теми, кто живет рядом, но и перед будущими поколениями, судьбы Вселенной и человечества в целом. Этот том полного собрания сочинений, лишь семь рассказов из которого были ранее опубликованы на русском языке, можно с полным правом назвать коллекционным. Он, несомненно, станет неожиданным подарком всем почитателям творчества Мастера. При составлении сборника была проведена поистине колоссальная работа в архивах и библиотеках США, чтобы разыскать те произведения, которые даже на Западе не входили ни в одно из книжных изданий и были лишь единожды напечатаны в периодике.