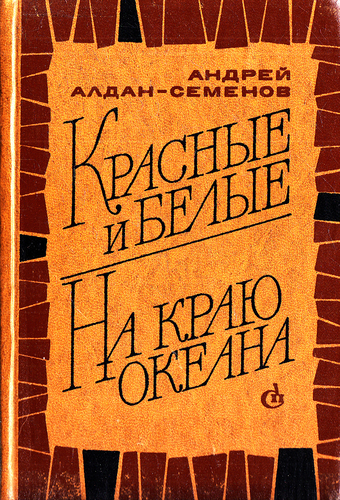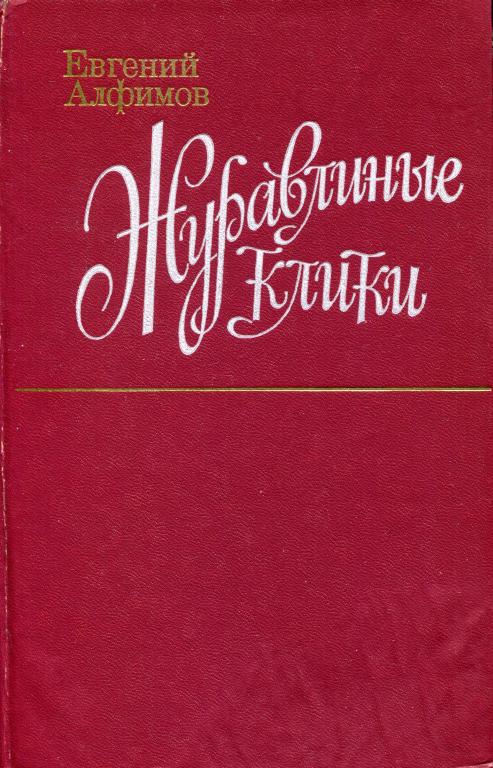Шрифт:
Закладка:
«Красные и белые. На краю океана» — это роман о гражданской войне в России, о судьбах людей, которые оказались на разных сторонах баррикад. Это роман о том, как война разделяет семьи и друзей, как она пробуждает в людях лучшее и худшее, как она меняет их жизни и мировоззрение.
Роман состоит из двух частей, которые повествуют о событиях 1918-1920 годов в России и на Дальнем Востоке. В первой части мы следим за судьбой Александра Сергеевича Колчака, адмирала и верховного правителя России, который пытается возродить Российскую империю и сопротивляться большевикам. Мы видим его взлеты и падения, его любовь и предательство, его героизм и трагедию.
Во второй части мы следим за судьбой Александра Ивановича Семенова, атамана Забайкальского казачества, который пытается создать свое государство на Дальнем Востоке и сотрудничать с японцами. Мы видим его амбиции и злодеяния, его дружбу и вражду, его успехи и неудачи.
«Красные и белые. На краю океана» — это увлекательный роман, который не дает скучать и не отпускает до последней страницы. Это роман, который рассказывает о том, как война влияет на ход истории и на человеческие судьбы. Это роман, который учит ценить то, что у тебя есть, и бороться за то, что ты хочешь. Это роман, который показывает, что любовь может быть как спасением, так и проклятием.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.