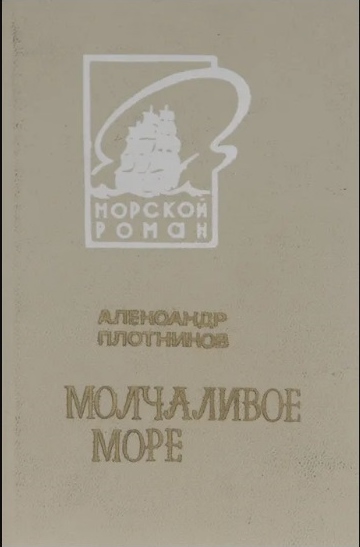Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Авторский сборник А. Плотникова содержит две повести. «Александр Николаевич Плотников — военный моряк. Много лет плавал на подводных лодках. Позднее, став собкором морского журнала, участвовал в ряде дальних походов советских военных кораблей. Сейчас* А. Плотников — заведующий отделом газеты ДКБФ «Страж Балтики», член Союза советских писателей. Он автор пяти книг морских повестей и рассказов. Повесть «Молчаливое море» удостоена премии Министерства обороны СССР, как одна из лучших книг на военно-патриотическую тему». (* — 1973 год)
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Николаевич Плотников»: