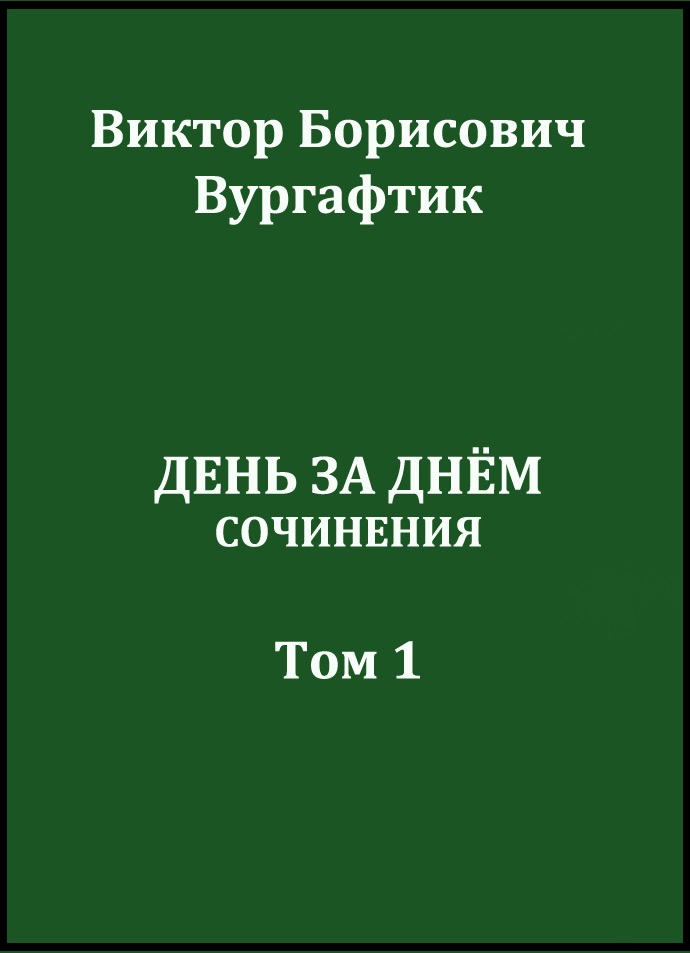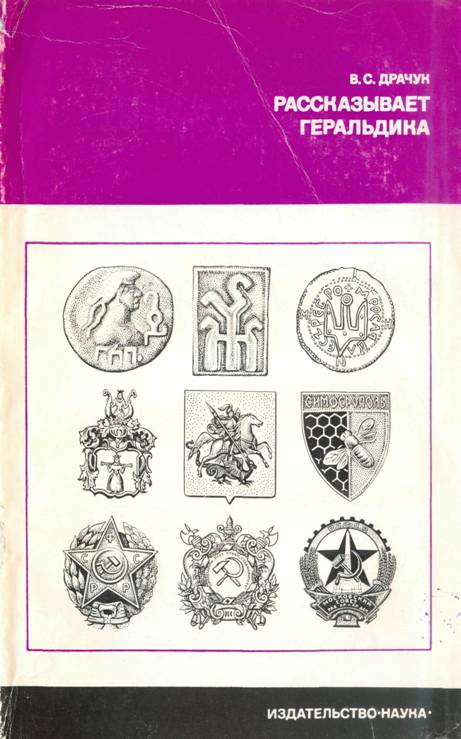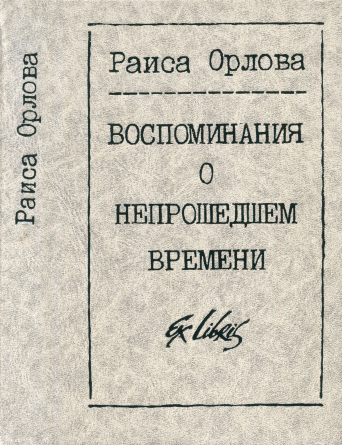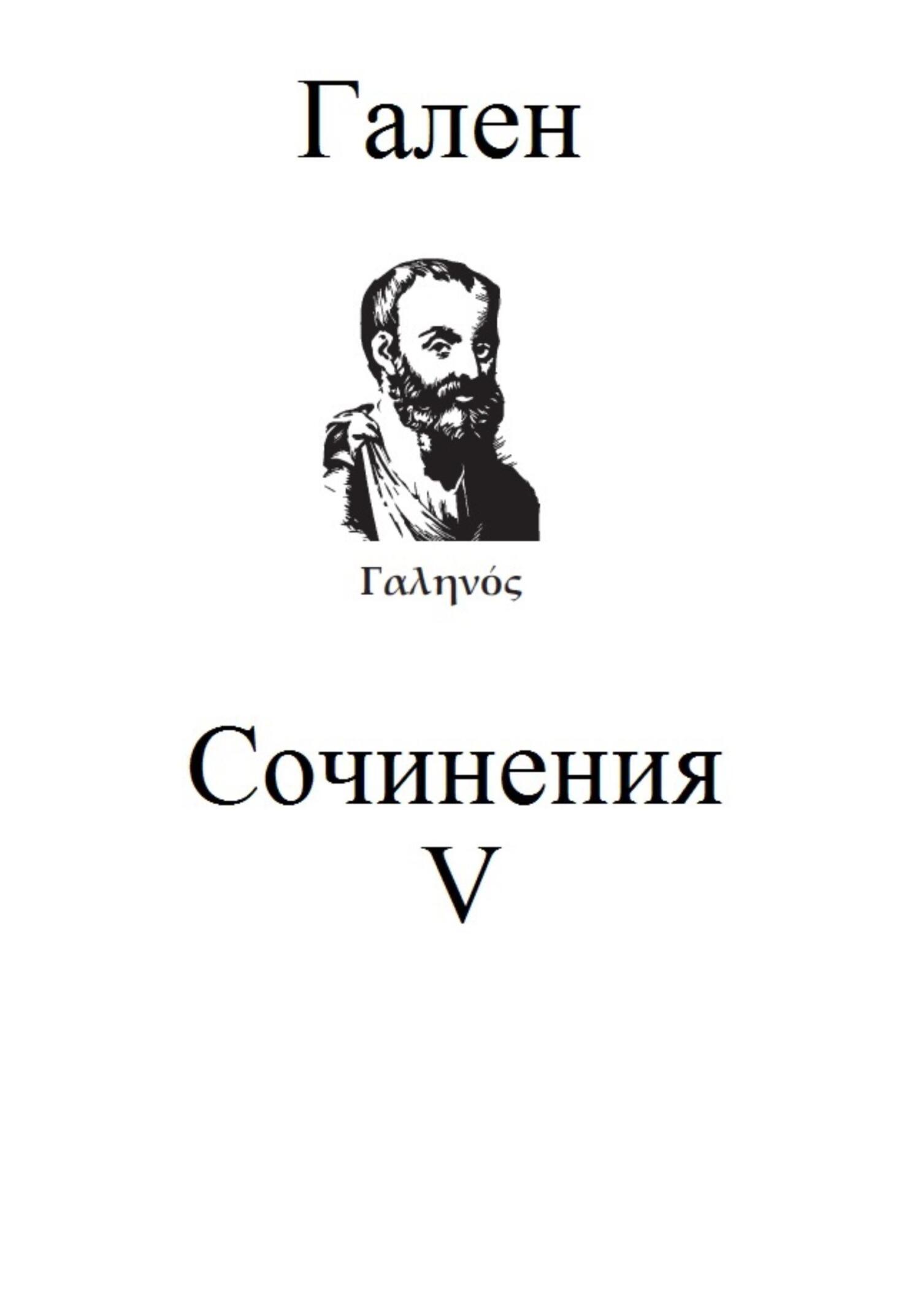Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга включает ранние работы (с 1965 по 1973 год) Виктора Борисовича Вургафтика, ученика философа и богослова Якова Друскина, содержащие его философские и религиозные размышления.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Борисович Вургафтик»: