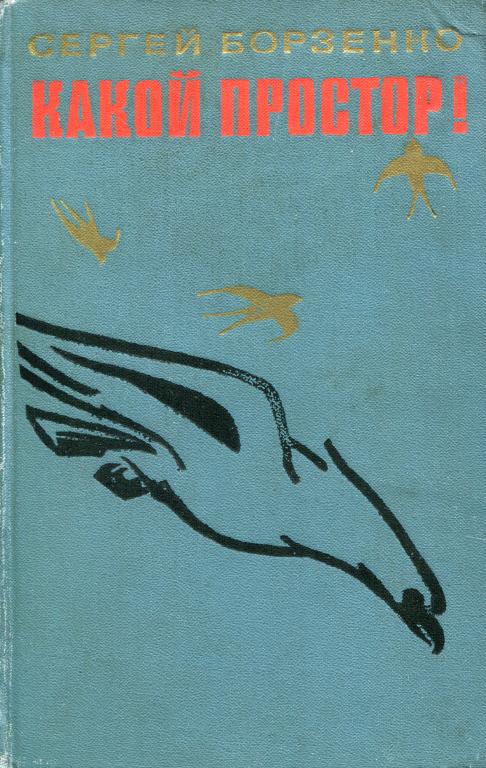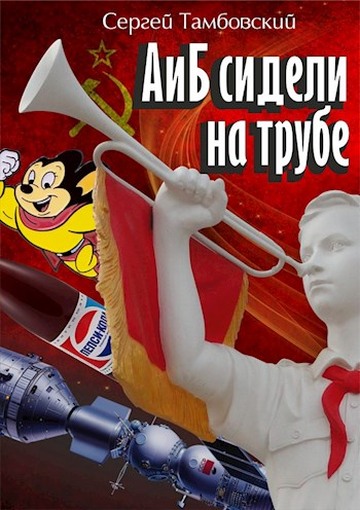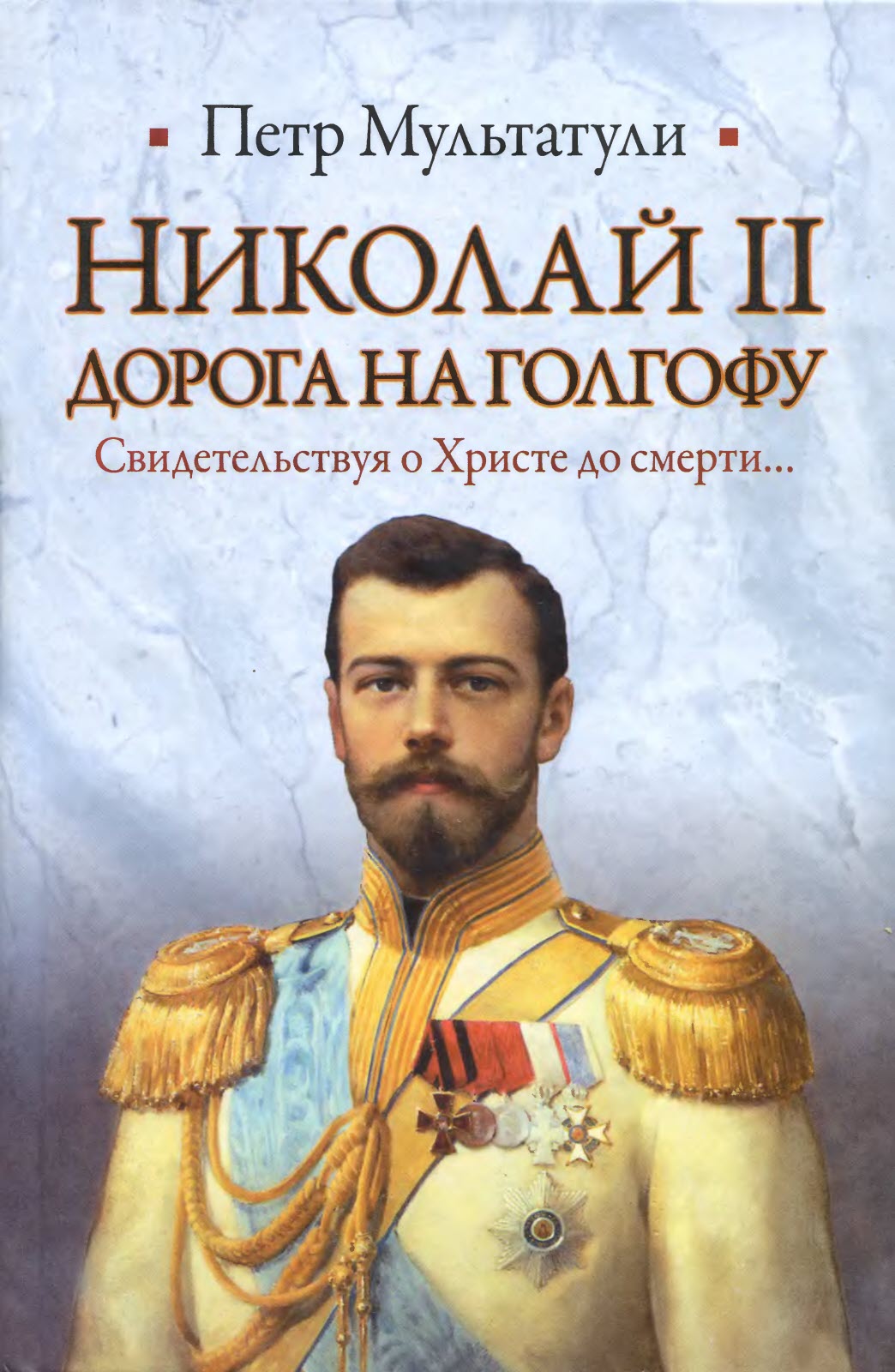Шрифт:
Закладка:
Действие романа «Какой простор!» происходит на Украине и охватывает время с 1920 по 1924 год. Автор С. Борзенко рисует широкую картину жизни Советского государства после разгрома интервентов. Читатель найдет страницы, посвященные подавлению кронштадтского мятежа, борьбе партии с оппозицией, смерти Ленина. Главные герои — отец и сын Ивановы — знакомы читателю по первой книге романа. В роман входят новые персонажи из среды рабочих, крестьян, интеллигенции. Это в первую очередь семья ветеринарного фельдшера Аксенова. Роман, написанный в свойственной С. Борзенко яркой и образной манере, волнует как драматическими событиями того времени, так и судьбами изображенных героев. С. Борзенко, Герой Советского Союза, специальный корреспондент газеты «Правда», много ездивший по белу свету, издал роман «Утоление жажды», повести «Повинуясь законам Отечества», «Эль-Аламейн», «Семья», десять сборников рассказов и очерков.