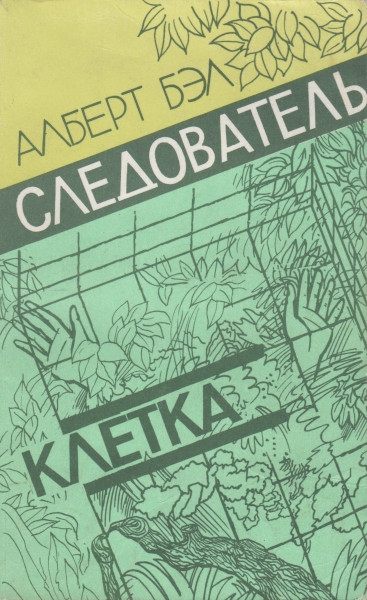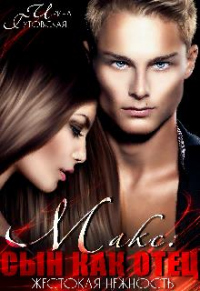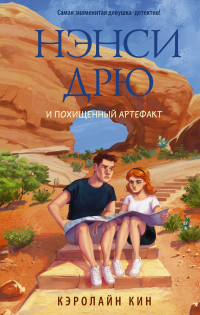Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Романы одного из ведущих современных латышских писателей, чье творчество отличается глубоким психологизмом и острой актуальностью. Составляющие книгу романы различны по тематике, но их объединяет экстремальность ситуаций, позволяющих с максимальной полнотой прояснить характеры героев, а также авторские обобщения, имеющие ярко выраженное социальное звучание.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алберт Бэл»: