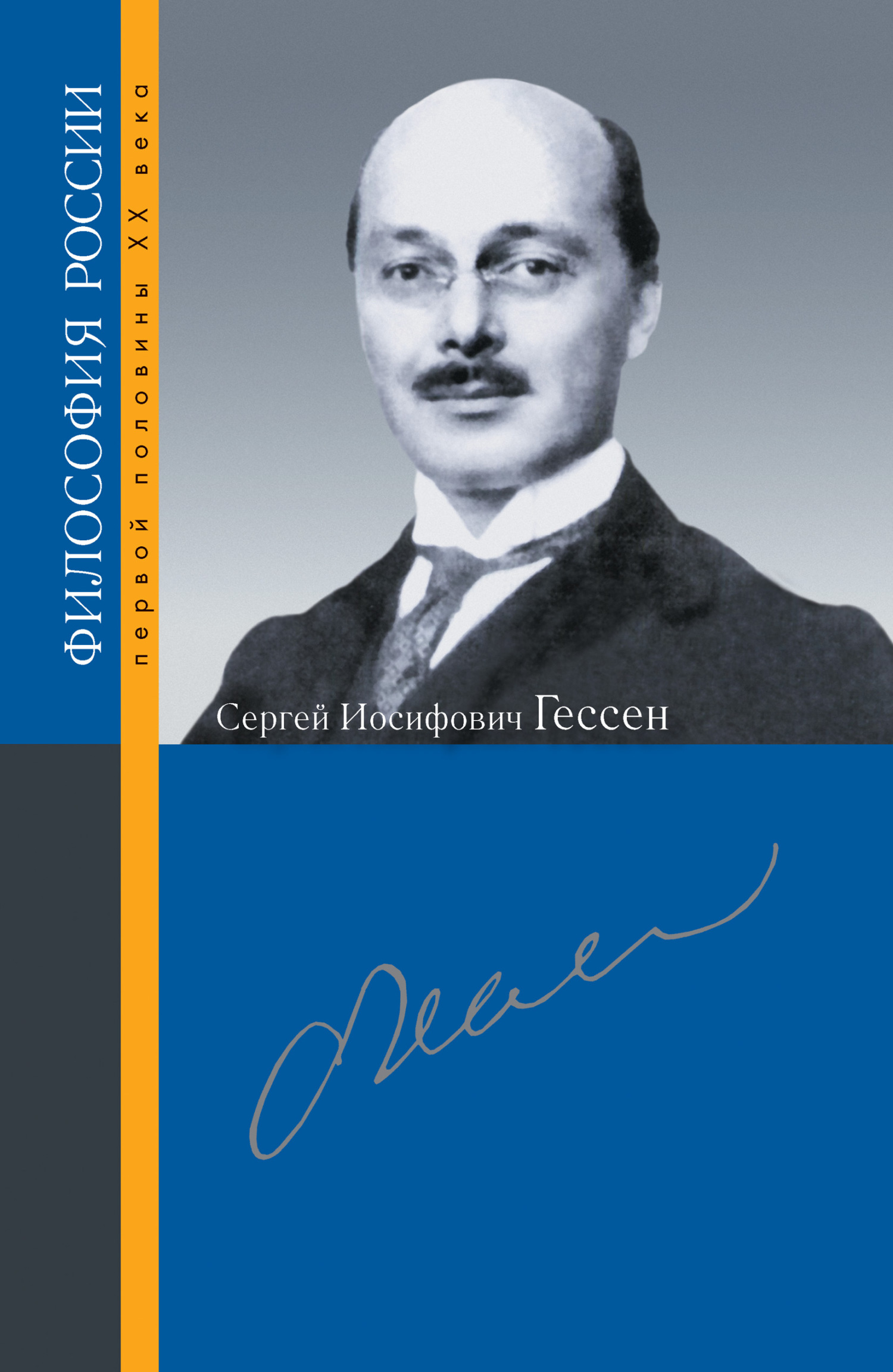Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Венгерская исследовательница Жужа Хетени занимается изучением творчества Владимира Набокова уже более двадцати лет, и эта книга – своеобразный промежуточный итог ее работы. Книга изначально написана на русском языке – что резонирует с собственным творческим методом объекта исследования. Автор в попытке открыть «некоторые закрытые ящики большого письменного стола Творчества Набокова» подробно изучает эротические мотивы в текстах писателя, особенности его языка, связи между Набоковым и его предшественниками и современниками.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жужа Хетени»: