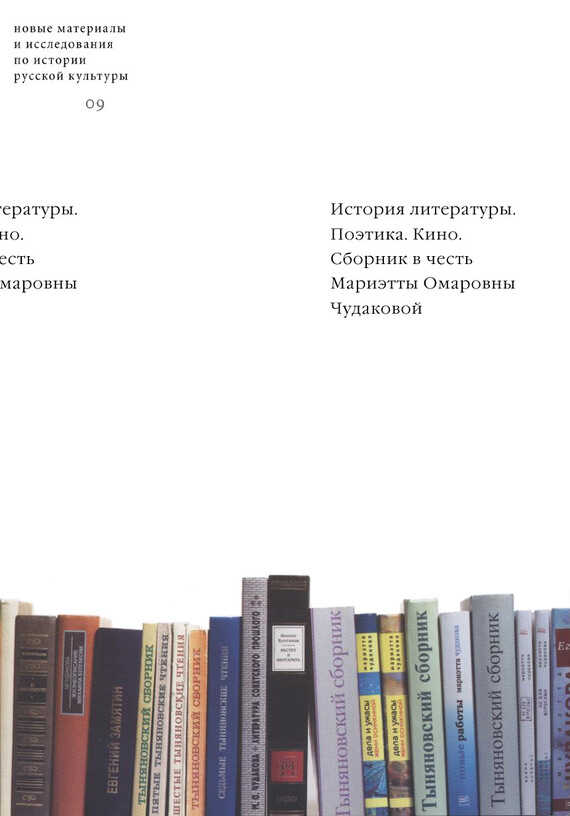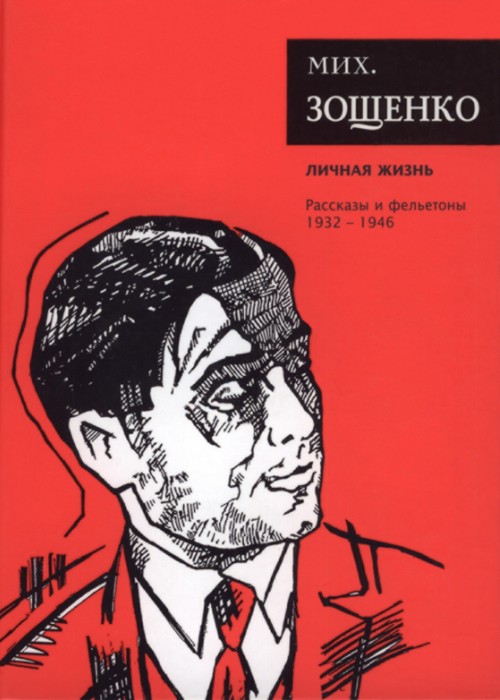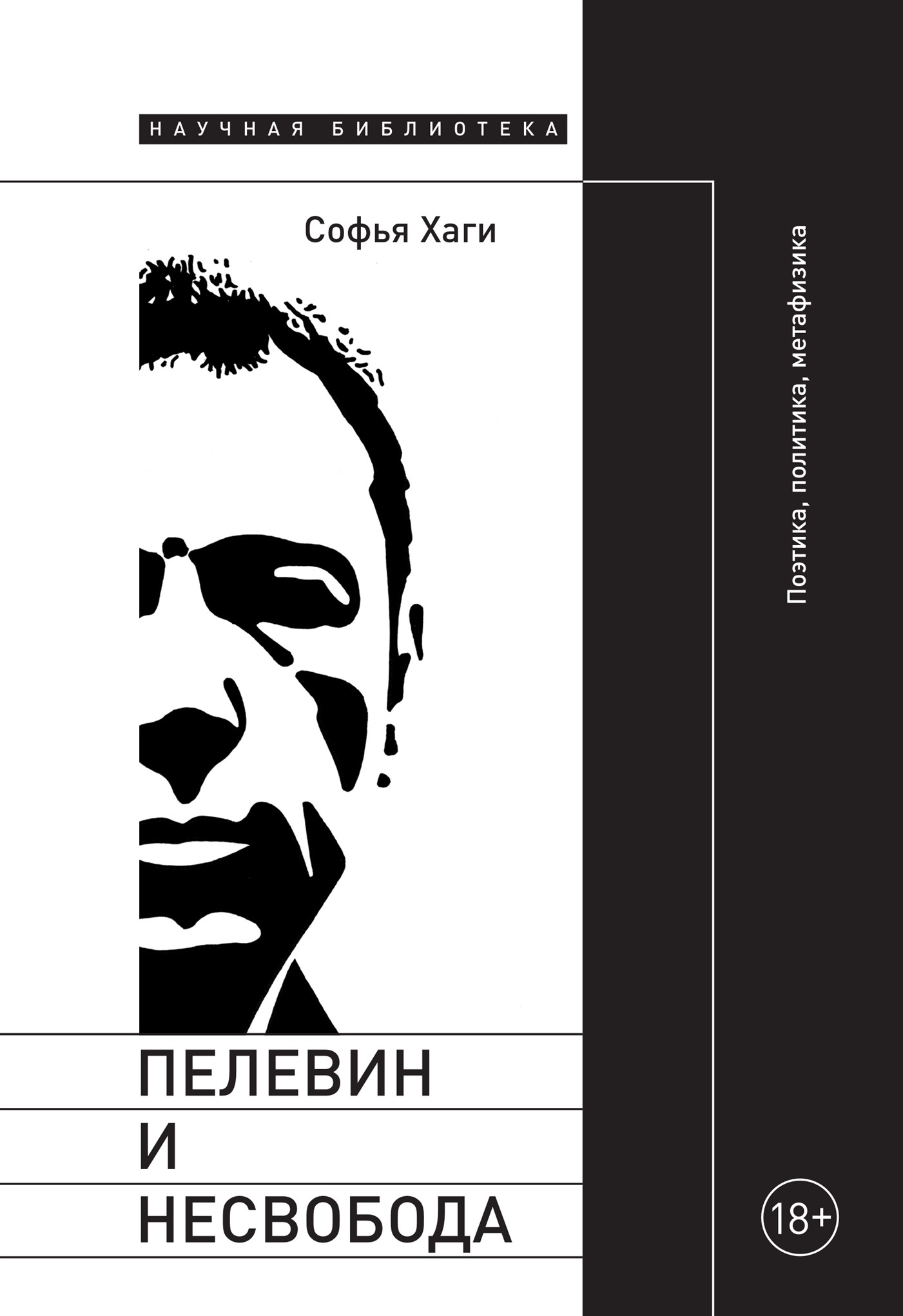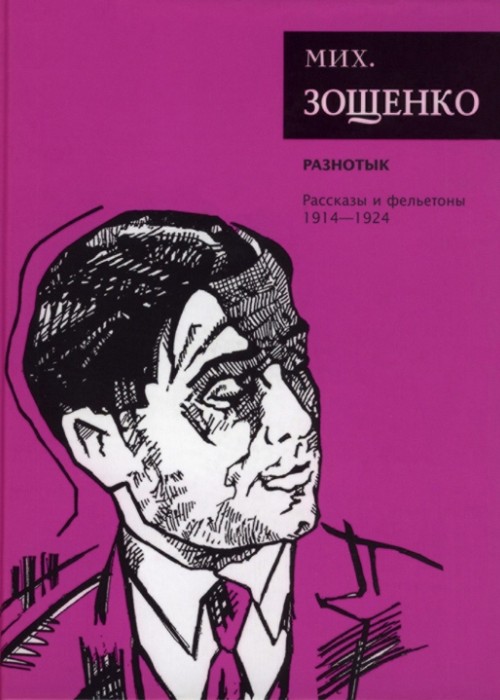Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник «История литературы. Поэтика. Кино» посвящен Мариэтте Омаровне Чудаковой — замечательному ученому, писателю, человеку решительного гражданского поступка. В первом разделе помещены обращенные к Мариэтте Омаровне слова уважения и восхищения; во втором — публикуются статьи и материалы, тематика которых соотносится с широкими научными интересами юбиляра.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Маркович Гандлевский»: