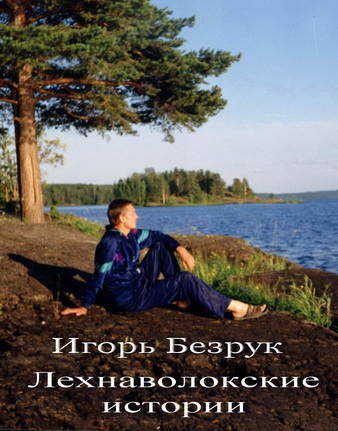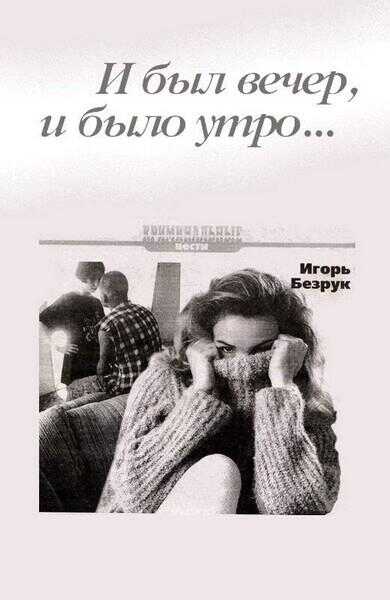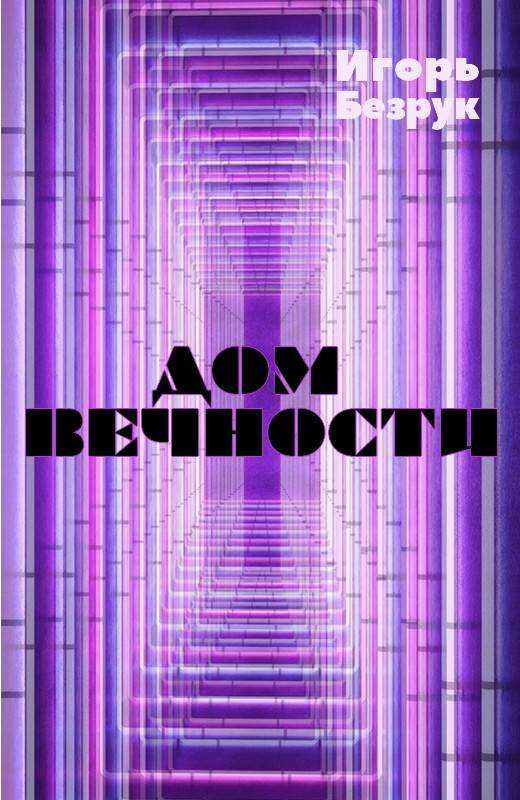Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник вошли рассказы, разнообразные по жанру и тематике. Присутствуют в них элементы и фантастики, и мистики, и ужаса. Однако всех их объединяет одно — желание автора понять, таковы ли мы на самом деле, как видимся.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Анатольевич Безрук»: