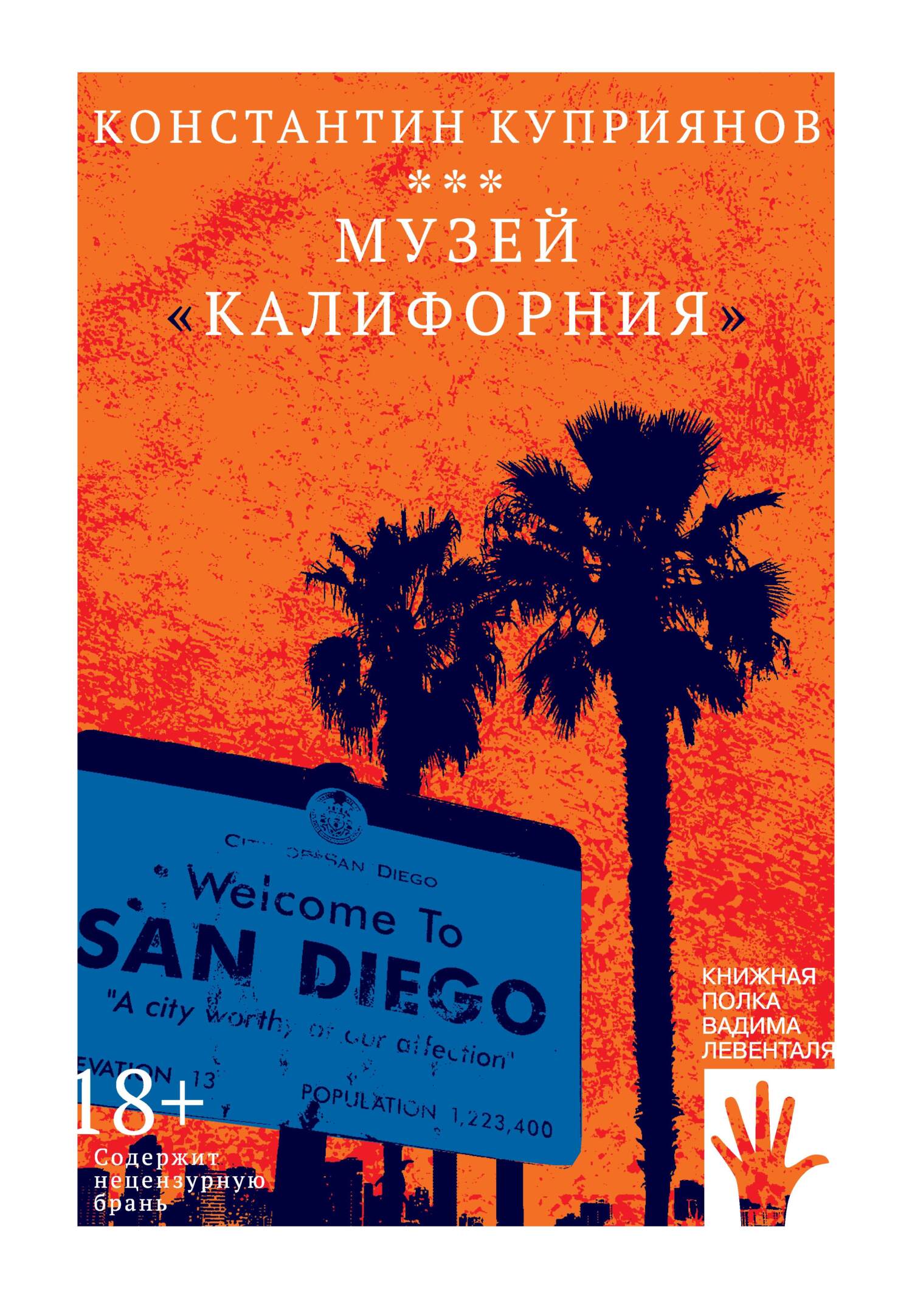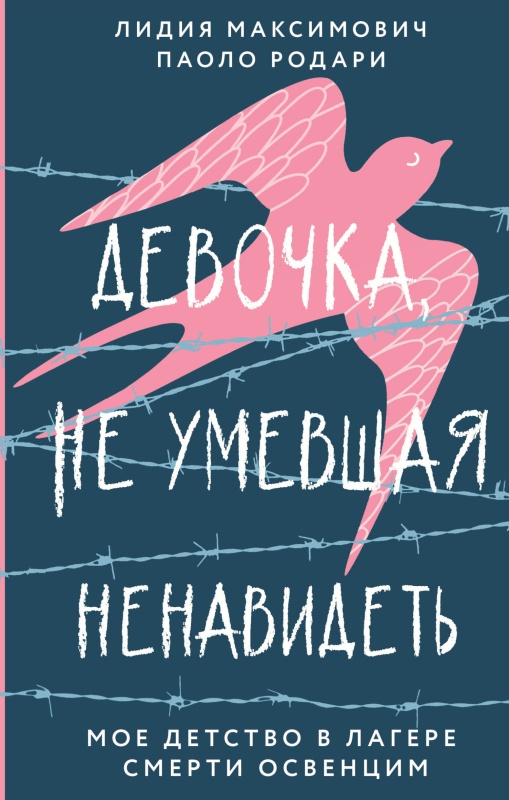Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первая монография о творчестве Лидии Мастерковой (1927–2008), одной из немногих женщин-художниц неофициальной художественной среды конца 60-х – середины 70-х, написанная искусствоведом и ее племянницей Маргаритой Мастерковой-Тупицыной. Книга охватывает советский и заграничный периоды творчества Лидии, начиная с ее решения вступить на стезю «редкой и опасной профессии» альтернативного художника в 1943 году и заканчивая живописью и графическими сериями начала 2000-х. В этом издании впервые публикуются уникальные фотографии и письма Лидии Мастерковой к Маргарите Мастерковой-Тупицыной и Виктору Агамову-Тупицыну, написанные в период эмиграции и до распада Советского Союза.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Маргарита Мастеркова-Тупицына»: