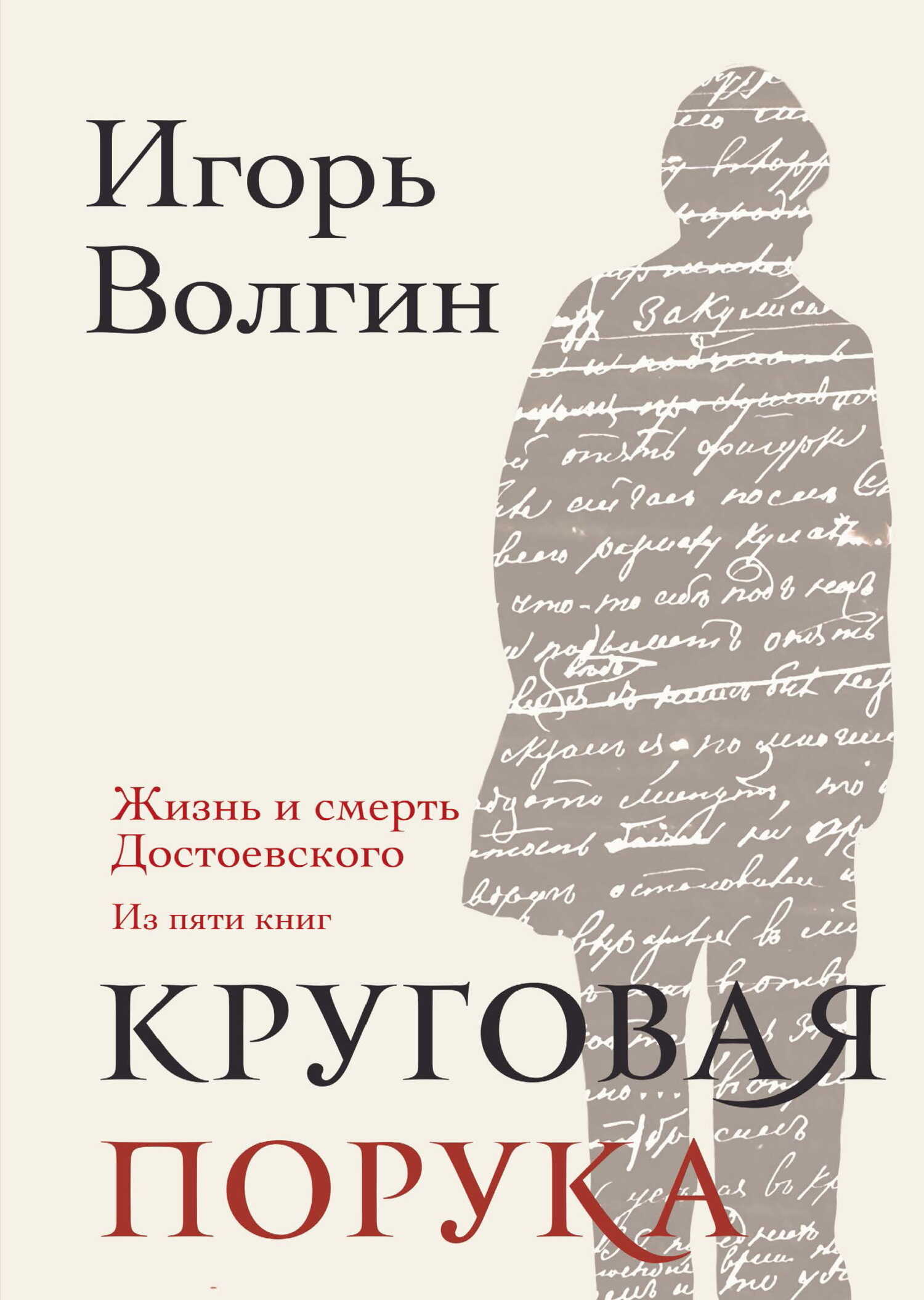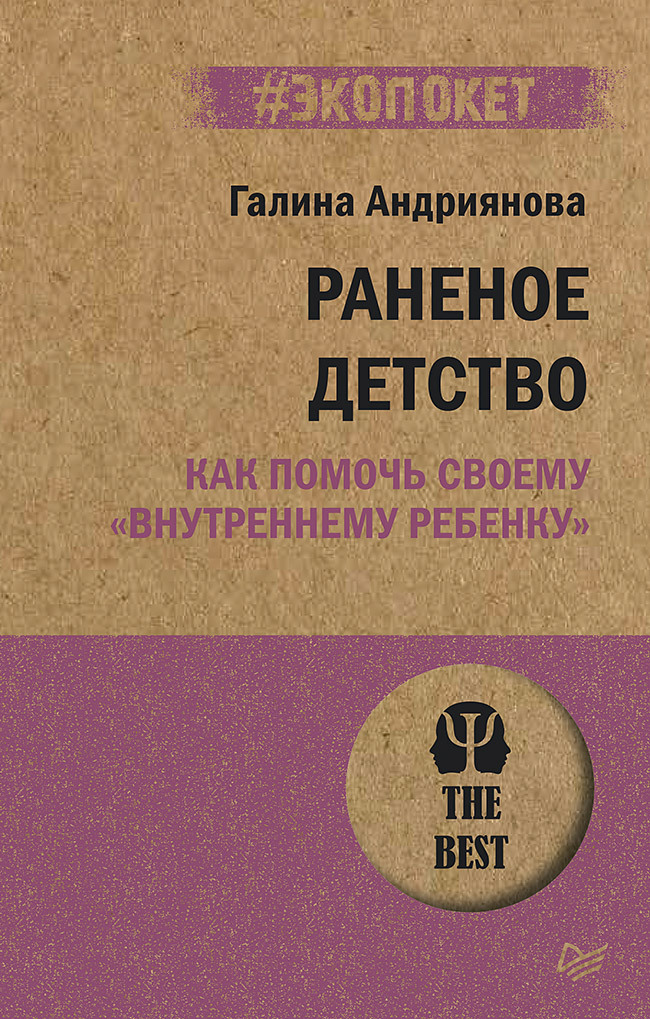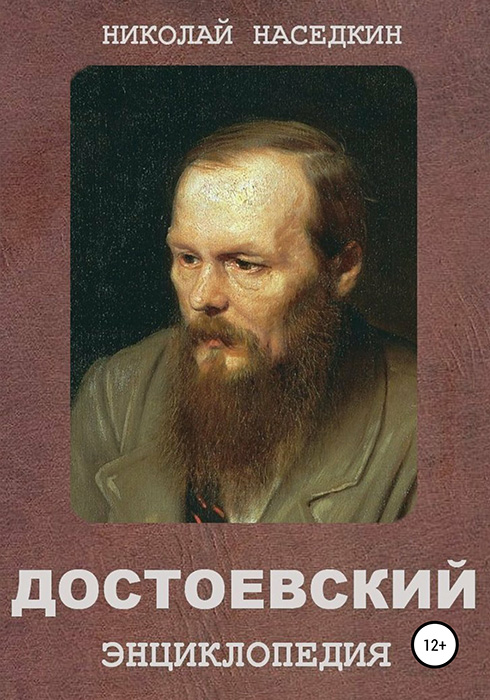Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведённые на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе.Настоящее издание является своего рода путеводителем по нескольким фундаментальным работам автора. Основанная на многих неизвестных или малоизученных обстоятельствах, эта книга позволяет представить жизнь и смерть Достоевского как непреходящую национальную драму.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Леонидович Волгин»: