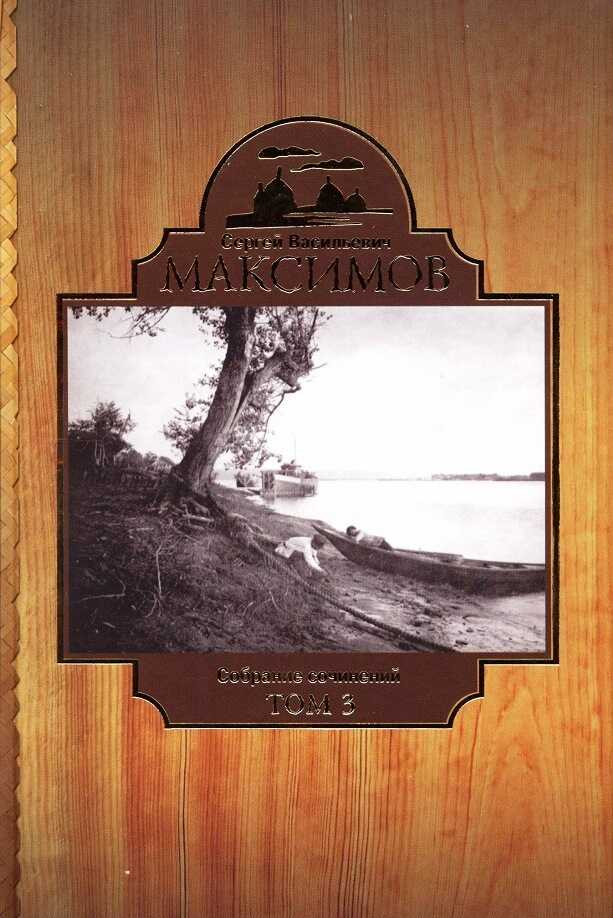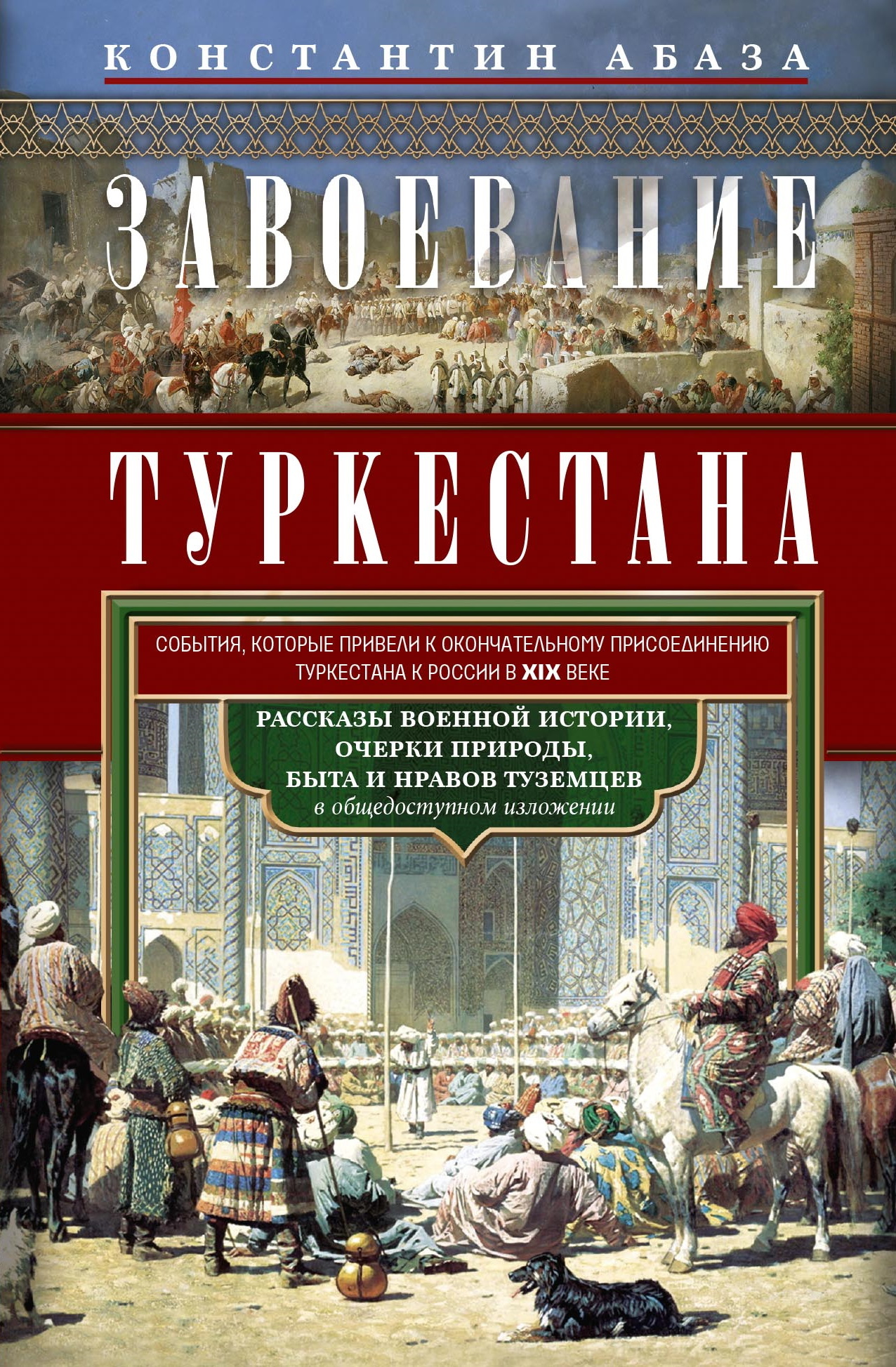Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга С.В. Максимова (1831-1901) «Год на Севере» открыла целую эпоху в изучении Русского Севера, стала отправной точкой в развитии интереса к научному исследованию края. Это одна из крупнейших работ по этнографии данного региона в XIX в. Сочинение имеет исключительное значение, как с научной, так и с литературной точки зрения. Яркий стиль писателя, блестящее знание местных диалектных особенностей и исторических источников делают это сочинение выдающимся произведением литературы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Васильевич Максимов»: