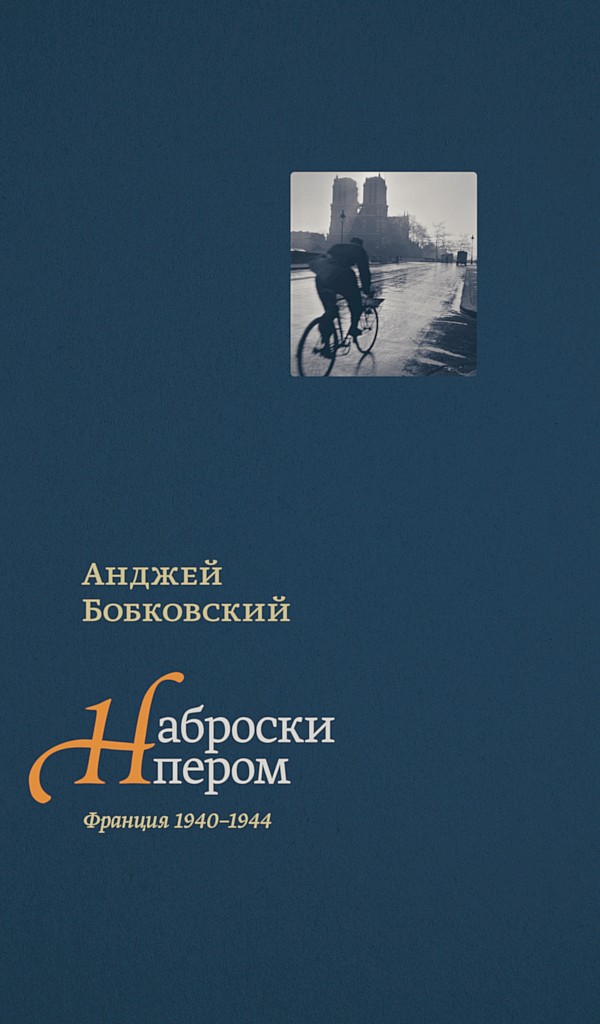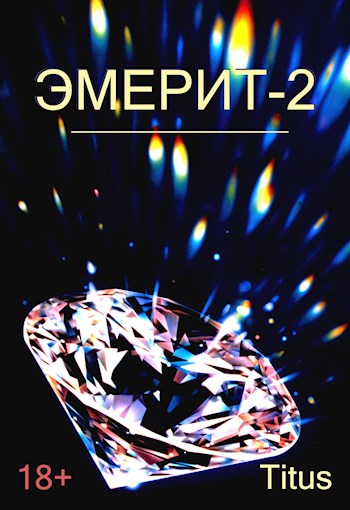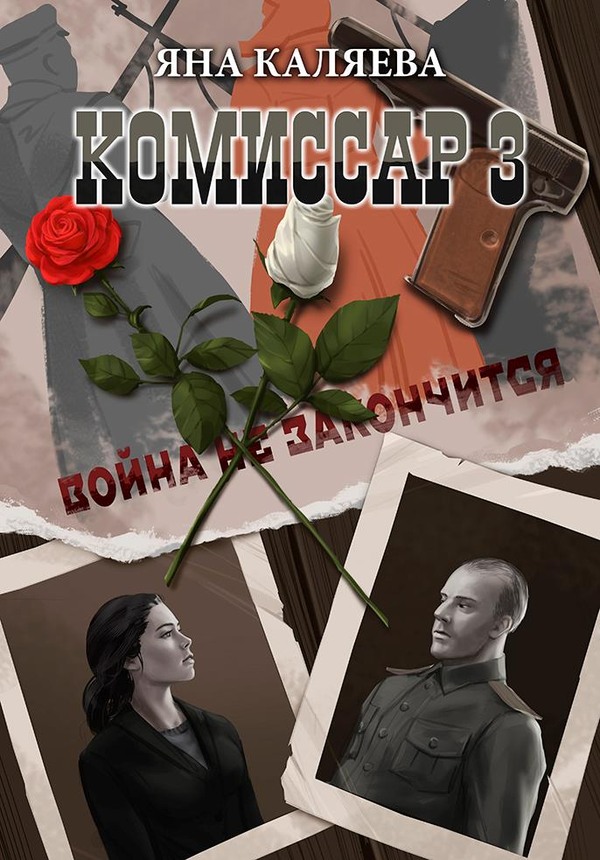Шрифт:
Закладка:
Дневник четырех военных лет, проведенных автором во Франции, стал одной из главных польских книг XX века. В нем Бобковский фиксировал развитие военных событий и в катастрофическом ключе диагностировал европейский кризис, обнаружив изрядную проницательность. Анджей Бобковский (1913–1961) — писатель, публицист. В марте 1939 года вместе с женой уехал в Париж. Работал на оружейном заводе под Парижем и вместе с ним был эвакуирован на юг Франции. В 1940 году вернулся в Париж и продолжил работу на заводе. Во время немецкой оккупации принимал участие в движении Сопротивления. После войны был одним из важнейших сотрудников журнала «Культура», главного печатного органа польской эмиграции, способствовавшего переменам в Польше. Именно под эгидой «Культуры» и был опубликован его военный дневник. В 1948 году Бобковский уехал в Гватемалу и открыл там магазин авиамоделей. Его перу принадлежат несколько книг, в том числе богатый эпистолярий.