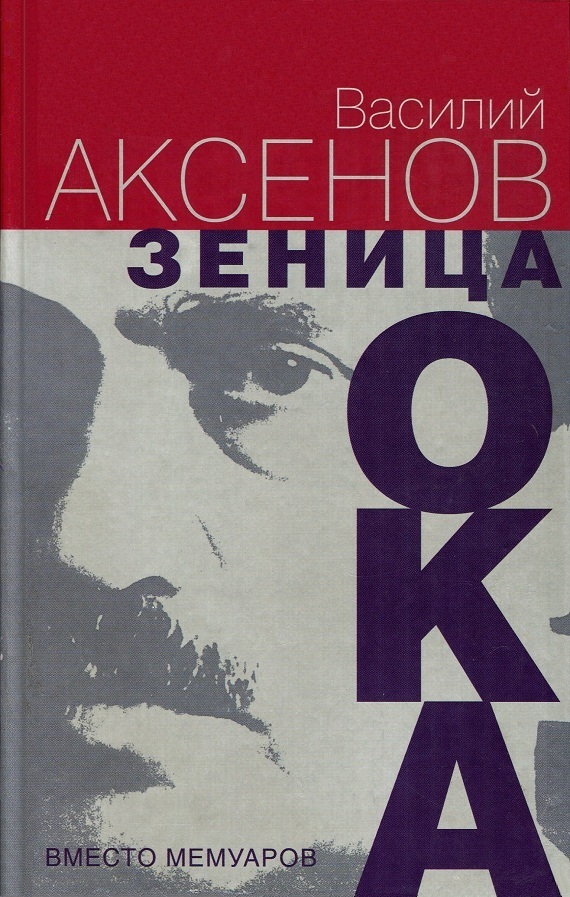Шрифт:
Закладка:
Вы верите в нечистую силу? В то, что она может вторгаться в жизнь людей и сеять раздор, бедствие и смерть? В то, что она может принимать разные обличья и манипулировать человеческими умами и душами? В то, что она может быть повержена только силой веры и молитвы? Если да, то эта книга для вас. Если нет, то эта книга тоже для вас.
В этой книге вы прочтете девять рассказов о разных проявлениях нечистой силы в современном мире. Вы познакомитесь с людьми, которые столкнулись с ней лицом к лицу и попытались противостоять ей. Вы увидите, как нечистая сила может проникать в самые разные сферы жизни: политику, бизнес, науку, искусство, спорт, шоу-бизнес, религию. Вы узнаете, как она может использовать самые разные инструменты: магию, гипноз, психотронику, наркотики, секс, музыку. Вы почувствуете, как она может воздействовать на самые разные чувства: любовь, ненависть, страх, жадность, зависть, гордость.
Злодеяния нечистой силы - это не просто книга ужасов. Это книга о добре и зле, о свободе и рабстве, о выборе и ответственности. Это книга о том, что каждый человек может стать жертвой или победителем нечистой силы. Это книга о том, что только вера в Бога и любовь к ближнему могут спасти человечество от зла. Чтобы узнать больше об этом, читайте книгу онлайн на сайте knizhkionline.com!