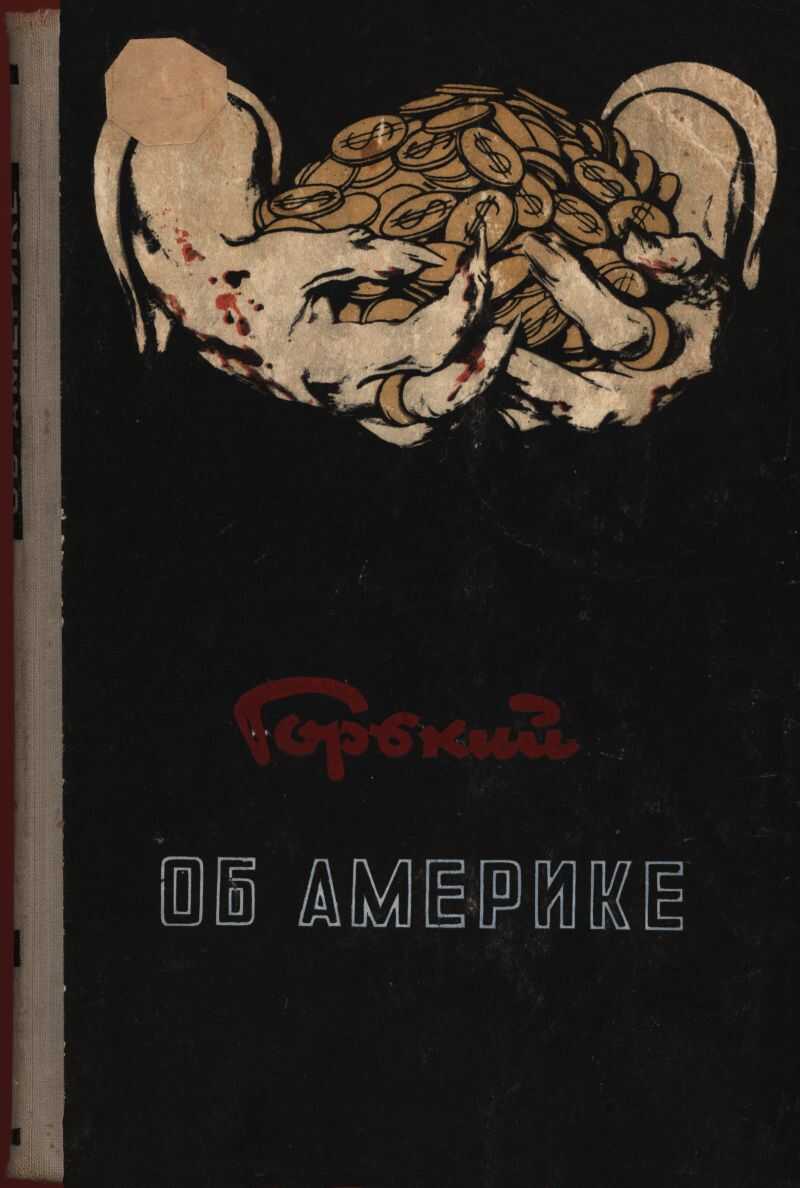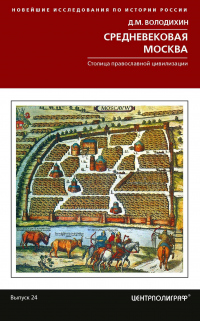Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В 28–30 томах публикуются письма, телеграммы, надписи M Горького за 1889–1936 годы. Письма М. Горького, включенные в настоящее издание, представляют лишь часть эпистолярного наследия писателя. Многие из них печатались ранее в сборниках, журналах и газетах; некоторые — не полностью, иногда в небольших отрывках. В собрании сочинений они печатаются целиком. В двадцать восьмой том вошли письма, написанные М. Горьким в 1889–1906 годах.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Максим Горький»: