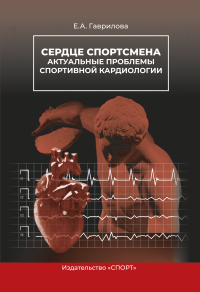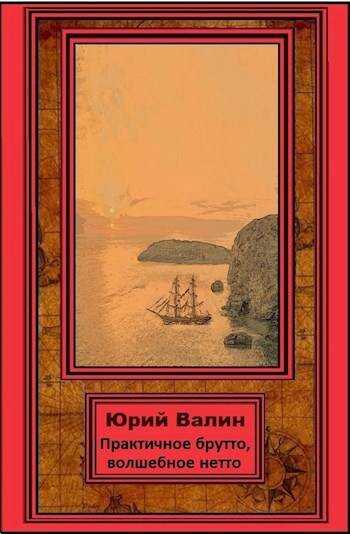Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга посвящена увлекательному миру спорта. В центре повествования — футболисты команды мастеров, представляющие рабочий коллектив крупного завода. Кульминационной точки сюжет достигает в напряженные матчевые минуты с зарубежными профессиональными спортсменами. Автор — казахстанец, ярко и увлекательно показывает процесс становления личности спортсмена, его бойцовских качеств, помогающих ему высоко нести знамя советского спорта.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Павлович Кузьмин»: