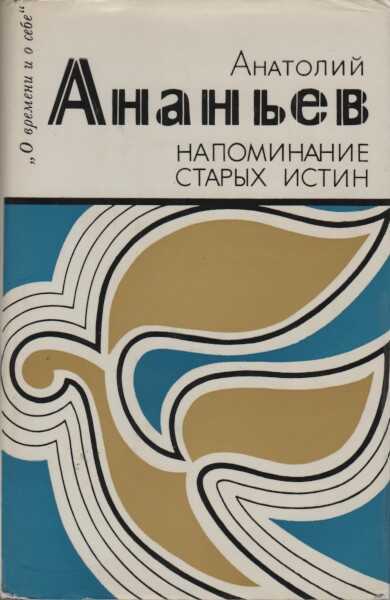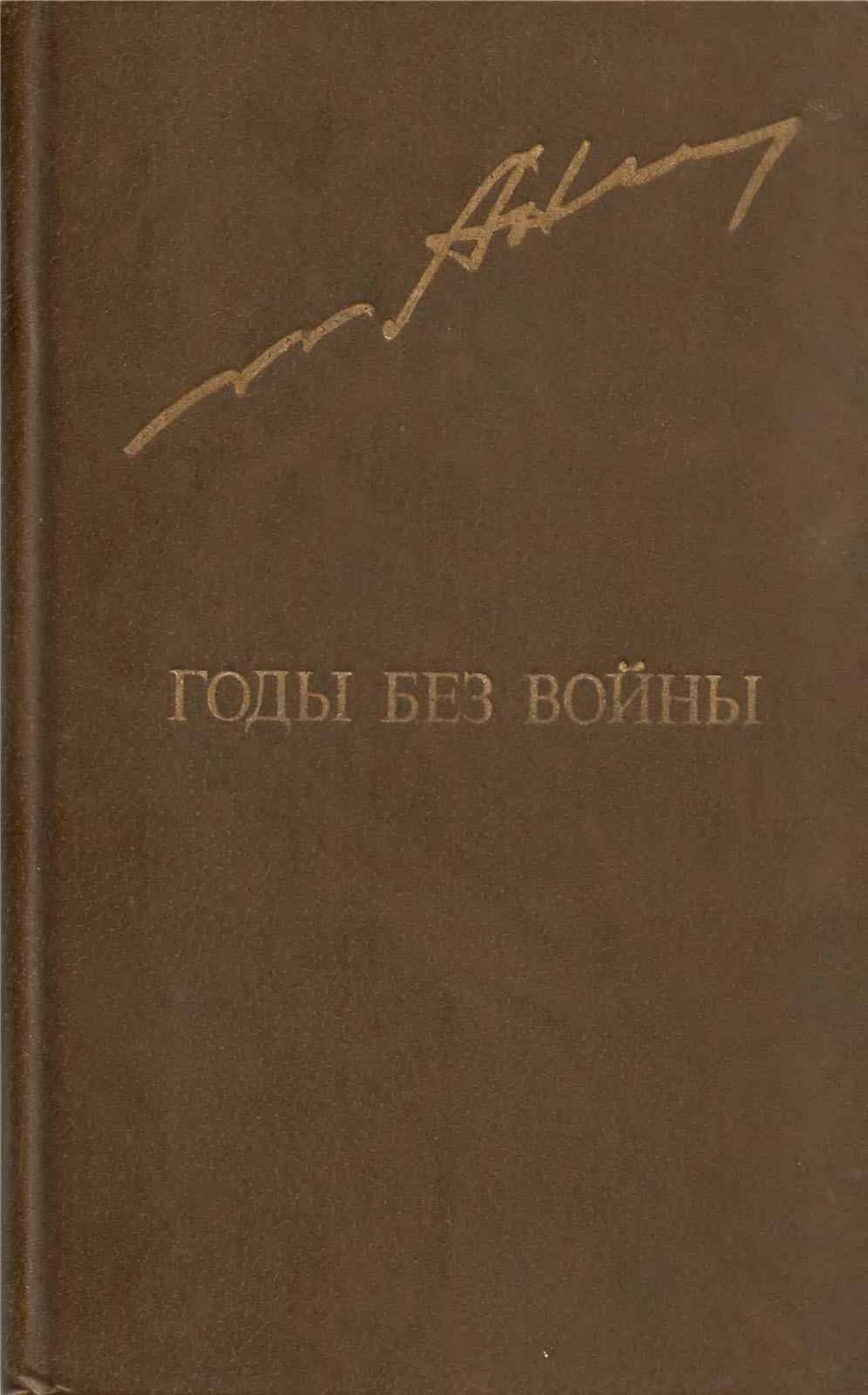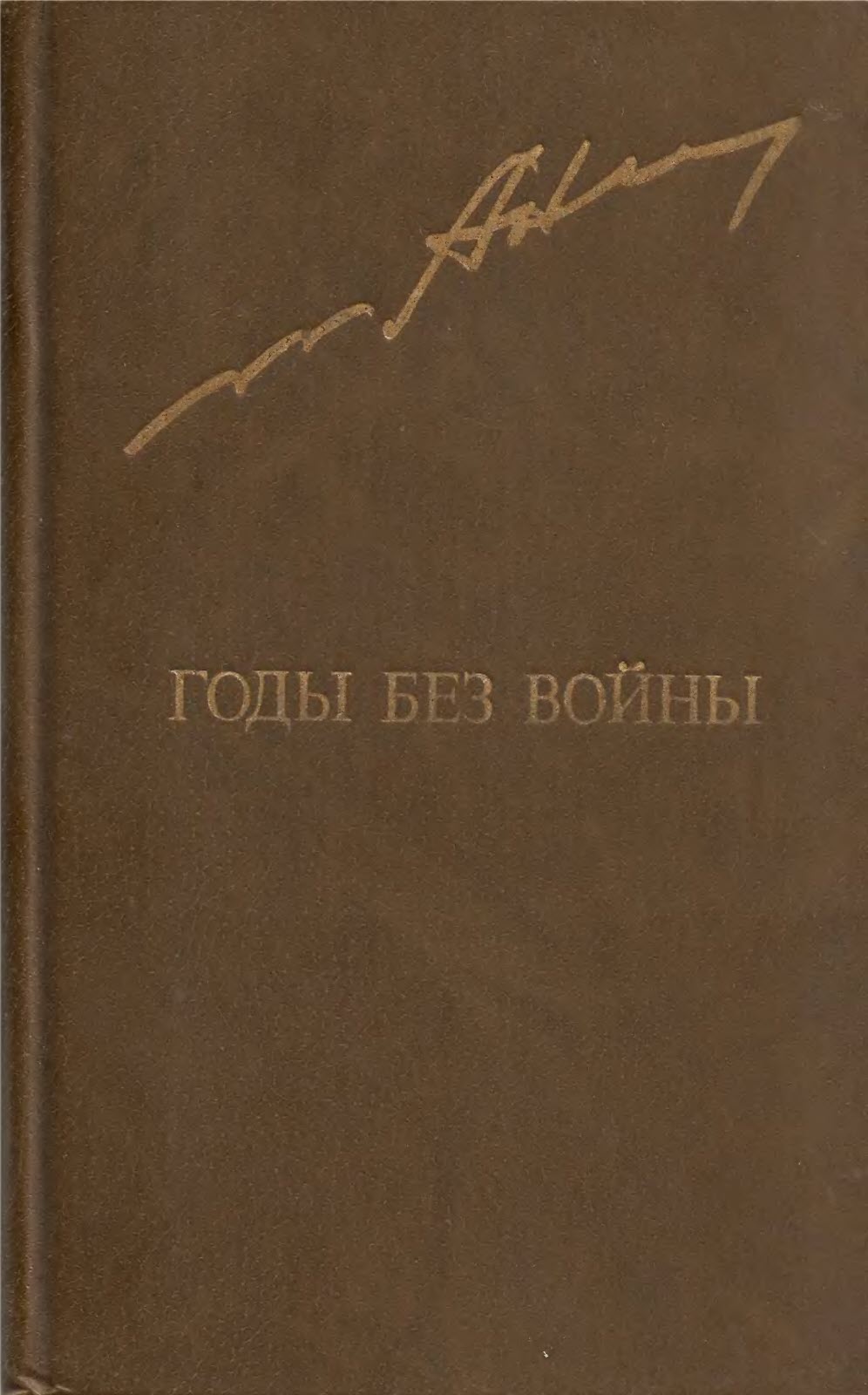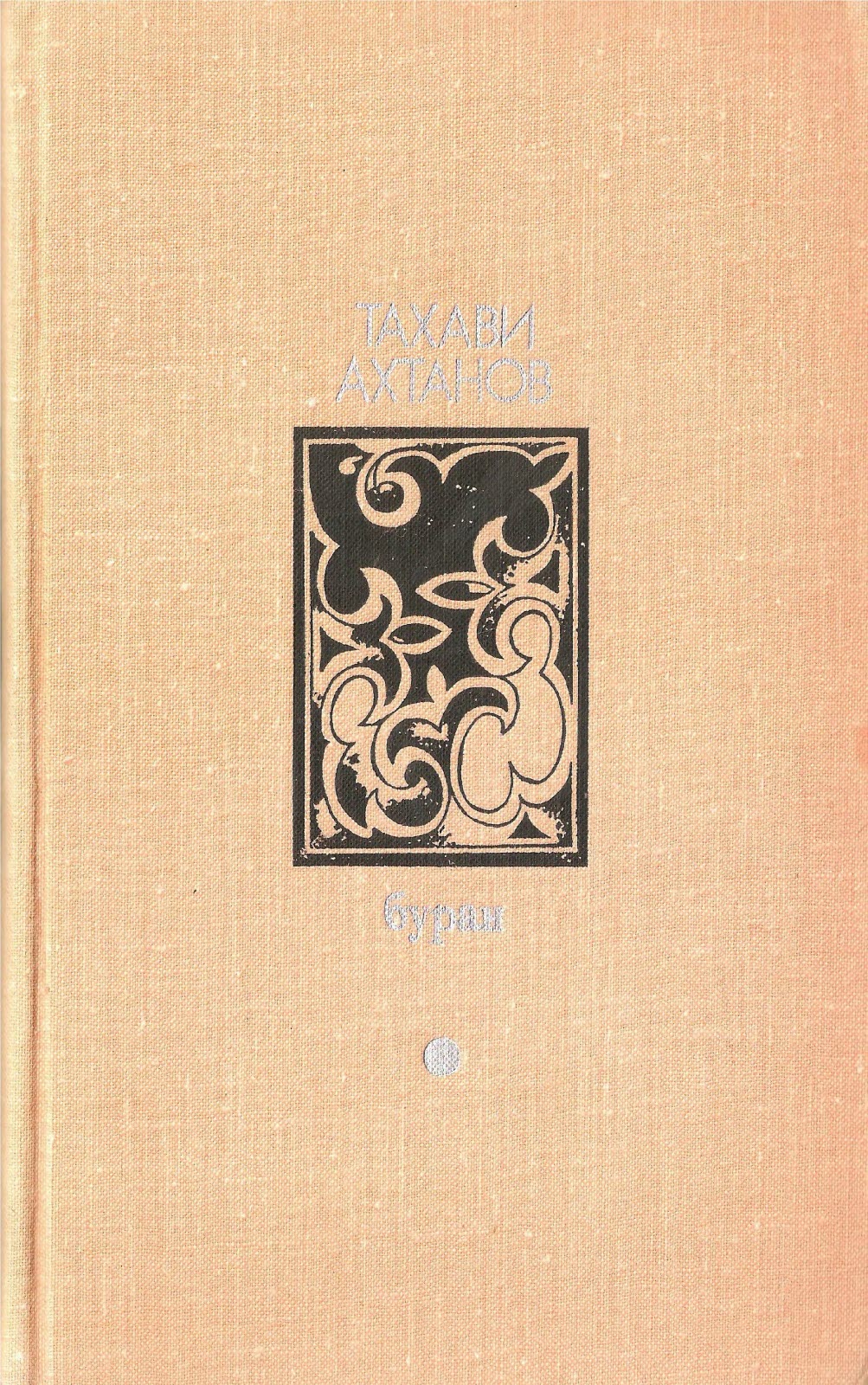Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Известный советский прозаик Анатолий Ананьев в этой книге выступает как публицист, очеркист, критик. Наряду с выступлениями на писательских съездах, размышлениями о путях развития советской литературы здесь помещены раздумья о собственном творчестве и о творчестве товарищей по перу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анатолий Андреевич Ананьев»: