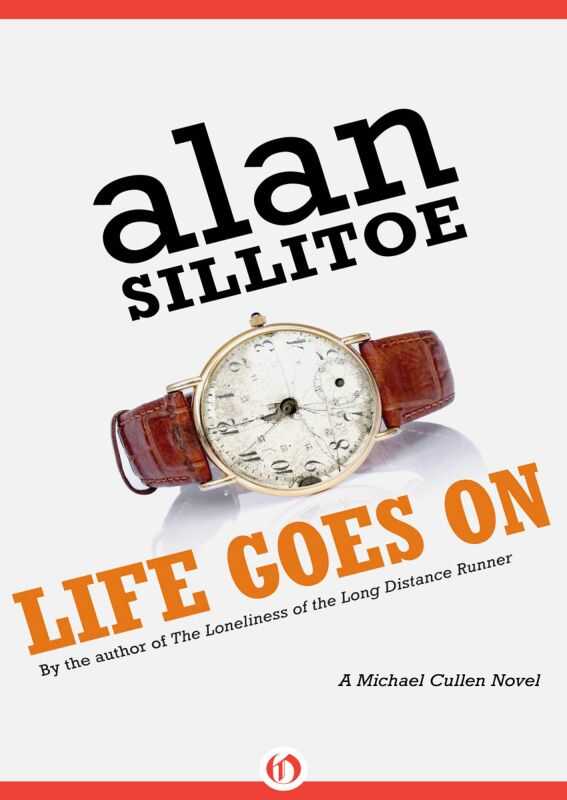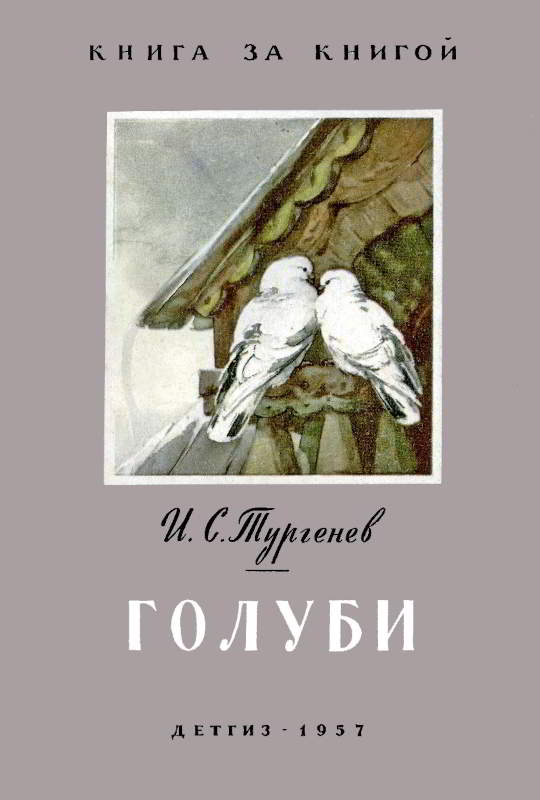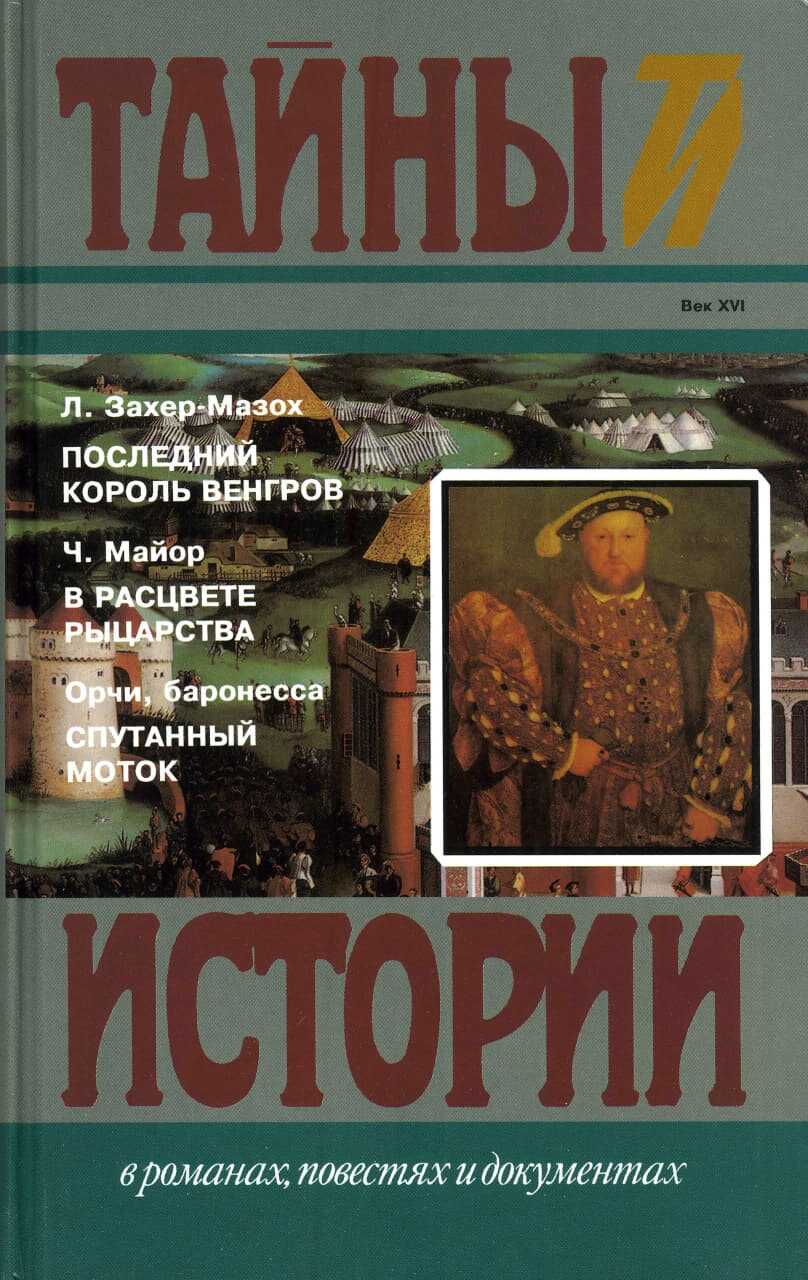Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман известного английского писателя А.Силлитоу "Life Goes On", в данном переводе "Майкл Каллен: жизнь продолжается" (1975) повествует о дальнейших приключениях плута и лжеца Майкла Каллена Роман не просто подхватывает нити своего приквела "Начало пути", прерывая идиллию Майкла в Верхнем Мэйхеме и создавая новую сцену для его плутовских затеек, но также усиливает и преувеличивает сатирическую составляющую, смещая ось сиквела в сторону гротеска.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алан Силлитоу»: