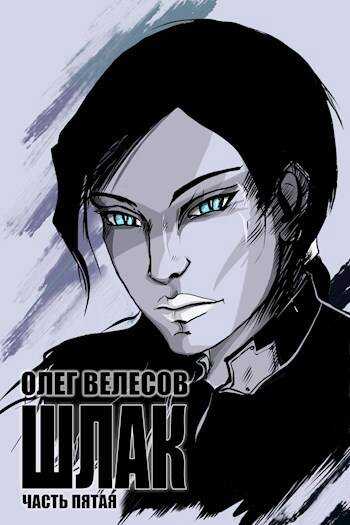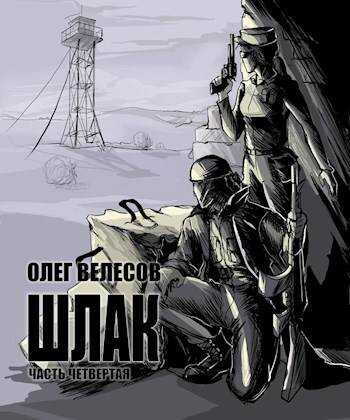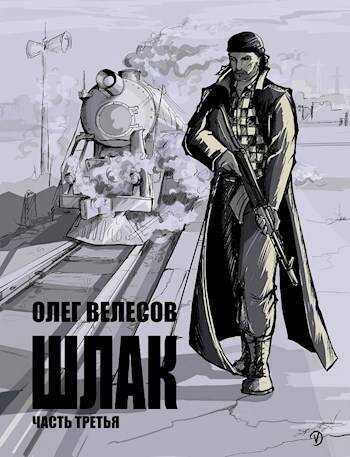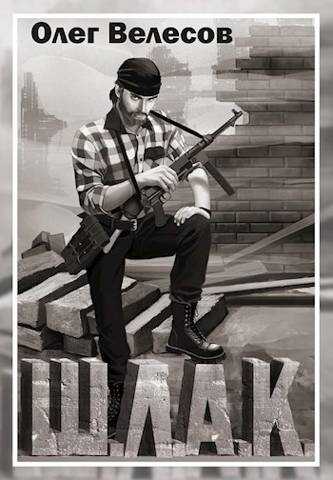Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Я всегда считал, что женщины созданы для любви. Но моя бывшая жена доказала мне, что такого в принципе быть не может. Я не поверил и уехал в другой город, чтобы попробовать всё сначала. И вот теперь сижу и думаю: которая из тех женщин, ныне меня окружающих, достойна меня? И достоин ли я сам хоть одной из них?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Олег Велесов»: