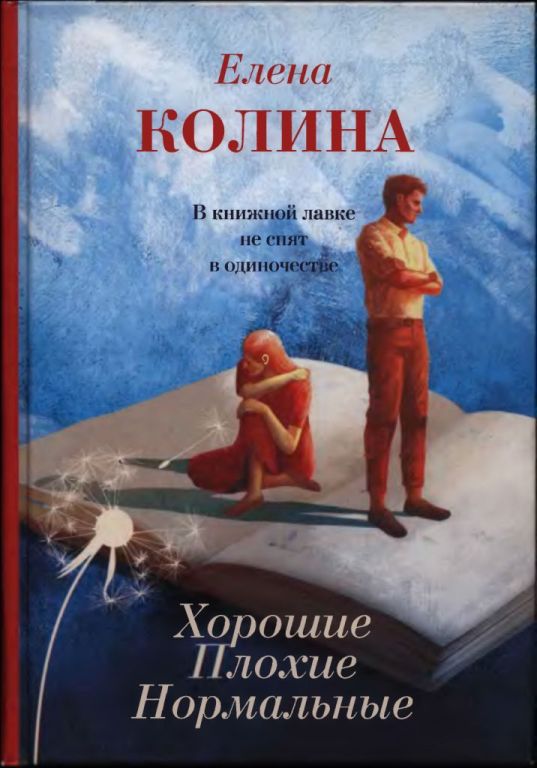Шрифт:
Закладка:
Это история о жизни и судьбе двух братьев, Алексея и Владимира, которые выросли в одном из садовых обществ на окраине Москвы в 1930-х годах. Они разделились после начала Великой Отечественной войны: Алексей пошел на фронт, а Владимир остался в Москве и стал инженером. Повесть рассказывает о том, как менялась их жизнь и отношения в течение нескольких десятилетий, как они пережили войну, репрессии, хрущевскую оттепель, перестройку и эмиграцию в Израиль.
«Сады» — это не только семейная сага, но и социально-психологический роман, который отражает дух эпохи и показывает разные стороны человеческой натуры. Это повесть о любви и ненависти, о верности и предательстве, о мечтах и разочарованиях, о поиске смысла жизни и своего места в мире.
Если вы хотите узнать больше о книге «Сады» Александра Иосифовича Былинова, то вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Там вы также найдете другие книги этого автора и отзывы читателей. Не пропустите возможность окунуться в атмосферу советского времени с книгой «Сады»! 😊