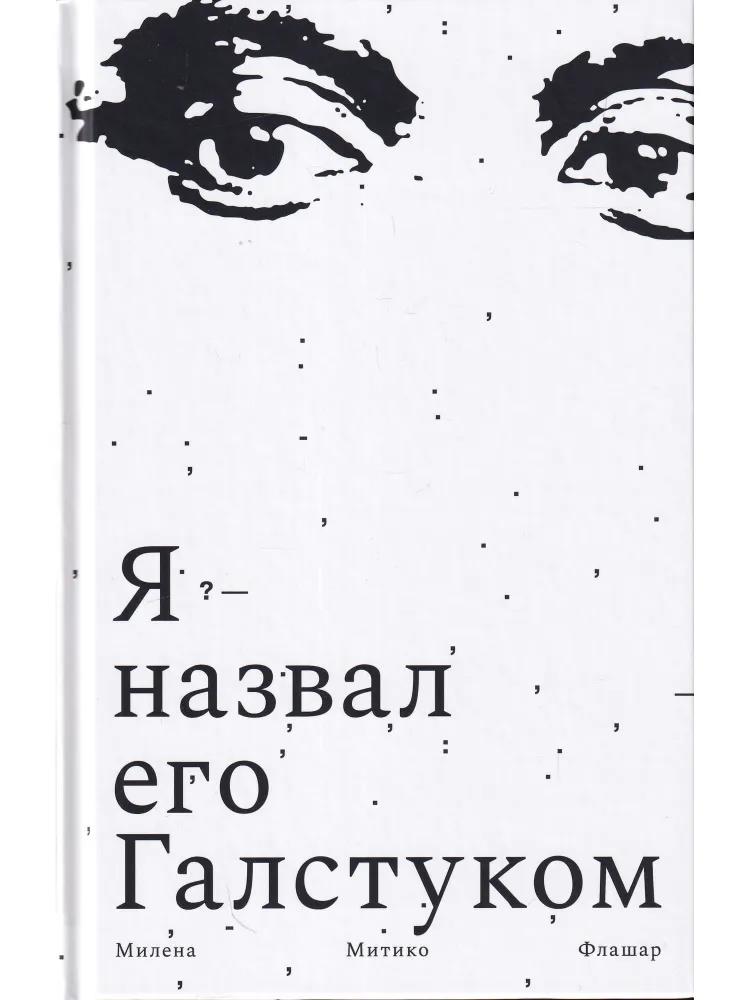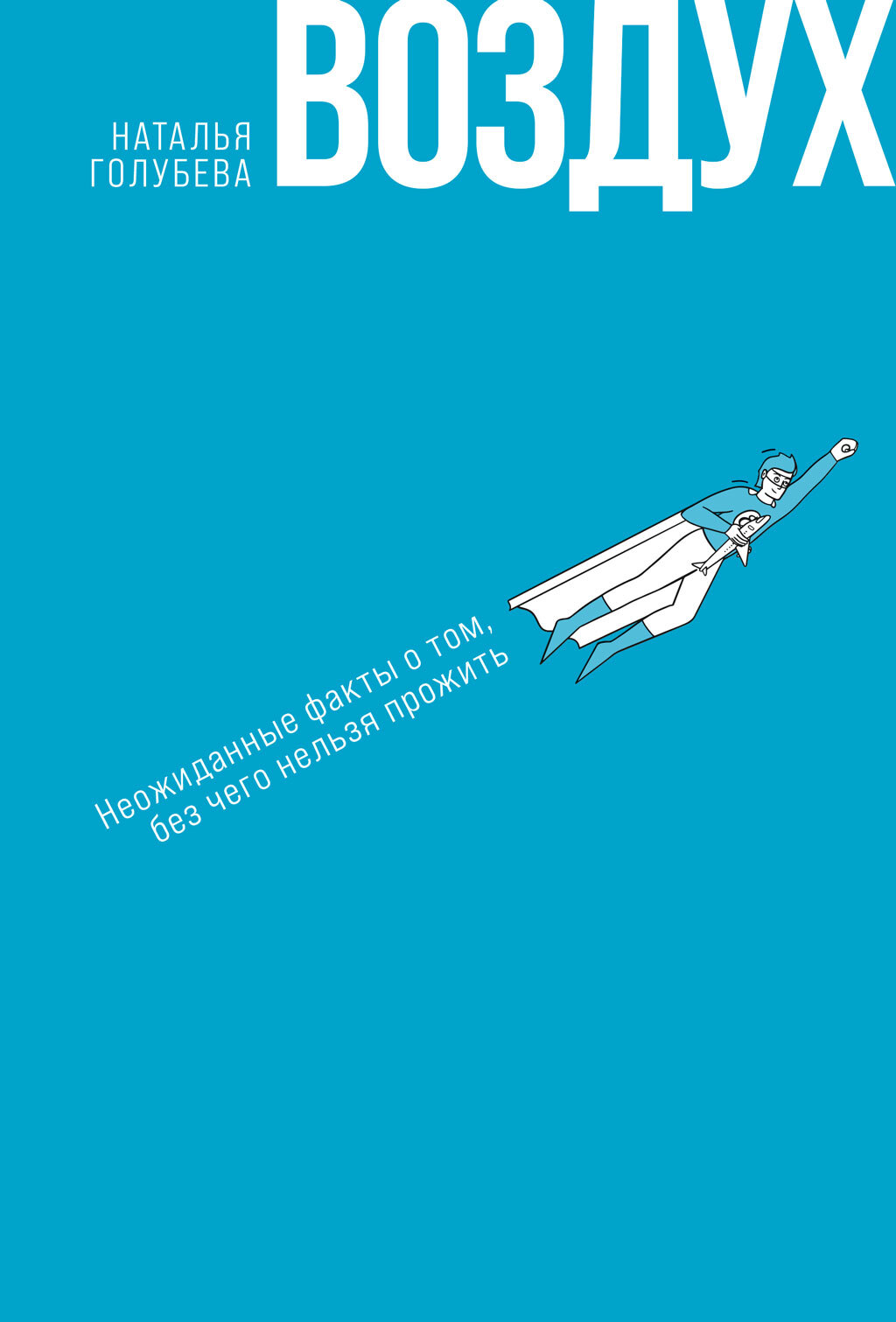Шрифт:
Закладка:
Я назвал его Галстуком - это необычный и трогательный роман австрийской писательницы японского происхождения Милены Митико Флашар. В центре сюжета - два мужчины, которые случайно встречаются в парке и начинают доверительную беседу. Один из них - Тагути Хиро, молодой хикикомори, который два года не выходил из своей комнаты и потерял всякий смысл жизни. Другой - Охара Тэцу, средний менеджер, который уволился с работы и скрывает это от своей жены. Оба они чувствуют себя одинокими и непонятыми, но находят в друг друге поддержку и понимание. Они делятся своими тайнами, страхами, воспоминаниями и надеждами, пытаясь преодолеть свои трудности и начать жизнь заново.
Эта книга - не просто повествование о двух несчастных людях, но и глубокое размышление о современном обществе, в котором многие чувствуют себя изолированными и беспомощными. Автор показывает, как важно уметь слушать и говорить, как ценно иметь друга и как можно изменить свою судьбу, если не бояться делать первый шаг.