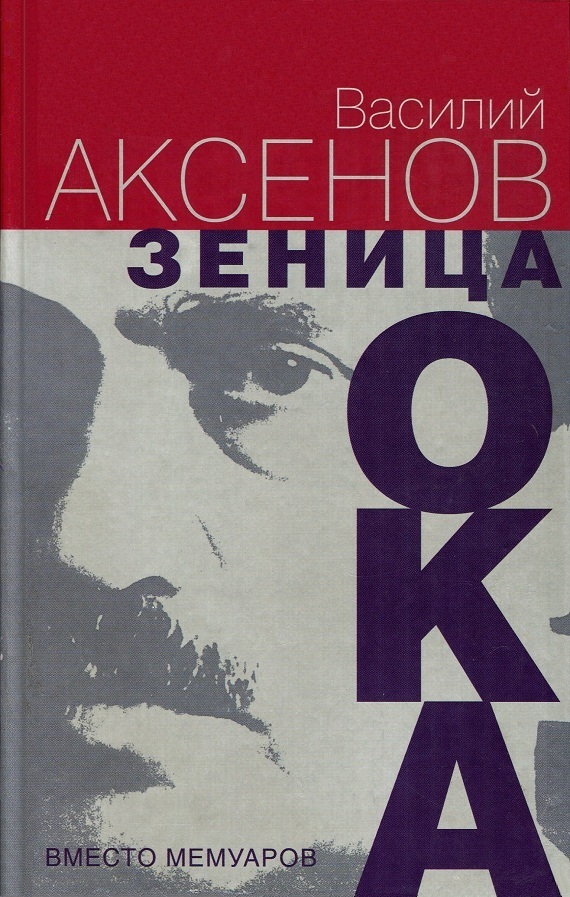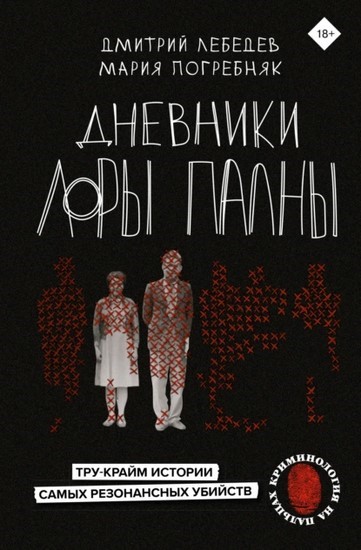Шрифт:
Закладка:
Воспоминания известного мастера книжной иллюстрации Анатолия Зиновьевича Иткина — это в первую очередь воспоминания о людях — его современниках. Увлечённость этого художника неиссякаема, ведь именно она помогает ему иллюстрировать книги, начиная с мировых сказок и заканчивая русской и зарубежной классикой. Анатолий Иткин рассказывает о детстве, юности, художественном становлении и развитии, практически обо всех периодах своей жизни и творчества. В книгу также вошли его воспоминания о войне, эвакуации, многочисленных поездках по стране. Рассказы о себе, и о своих друзьях, учителях и наставниках являются бесценными свидетельствами о жизни людей того времени. В предлагаемых воспоминаниях вы увидите фотографии из семейного альбома художника, его зарисовки, выполненные во время путешествий, портреты, жанровые сценки, книжные иллюстрации, литографии и эскизы.