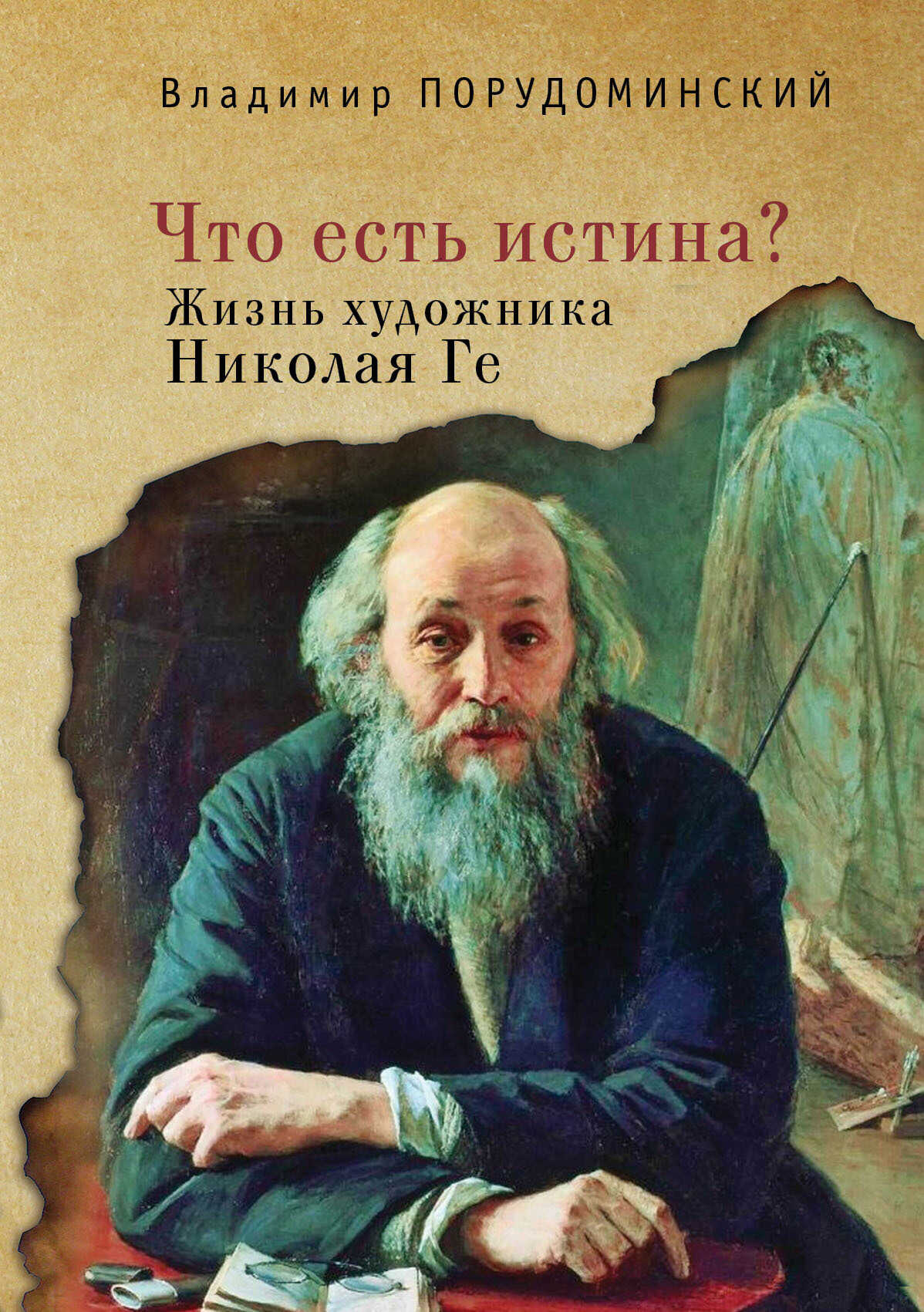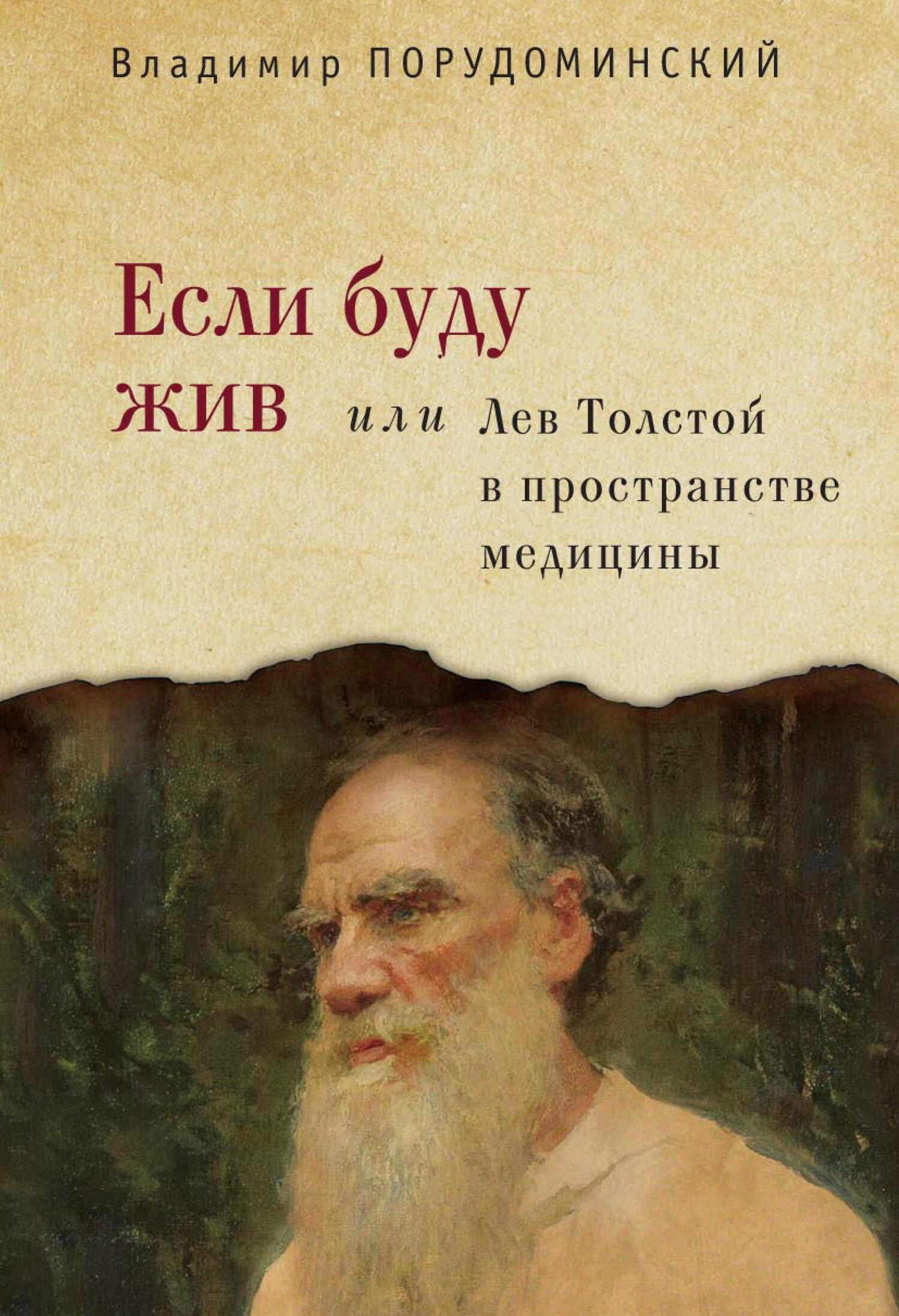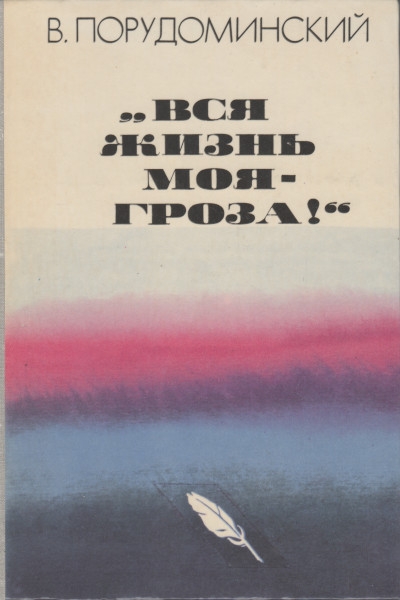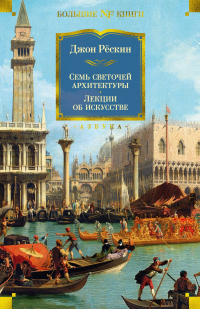Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эта книга о недолгой и тяжёлой жизни поэта Александра Ивановича Полежаева (1804—1838 гг.). Крестьянский мальчик, московский студент, сосланный царём за стихи в солдаты, узник подземного каземата, он всюду лицом к лицу встречался с несправедливым устройством тогдашней самодержавной России.Человек с горячим сердцем, гордый и смелый, он не желал мириться с жизнью раба. Его оружием были его стихи. В повести воссоздаётся образ поэта, рассказывается о его времени, о том, как впечатления жизни побуждали его к творчеству.Консультацию текста осуществил кандидат филологических наук В. И. Коровин.Оформление Н. Пономаревой.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Ильич Порудоминский»: