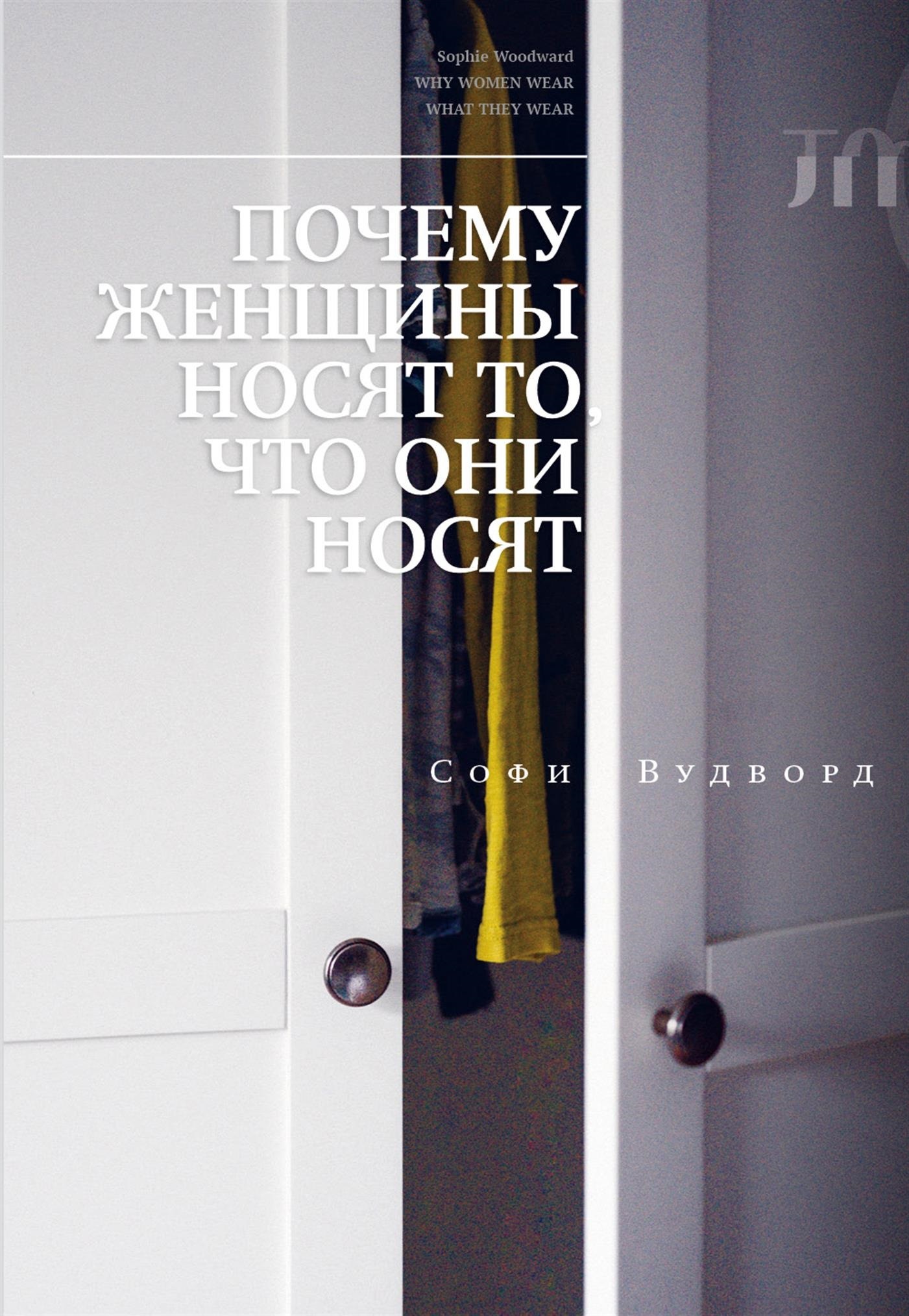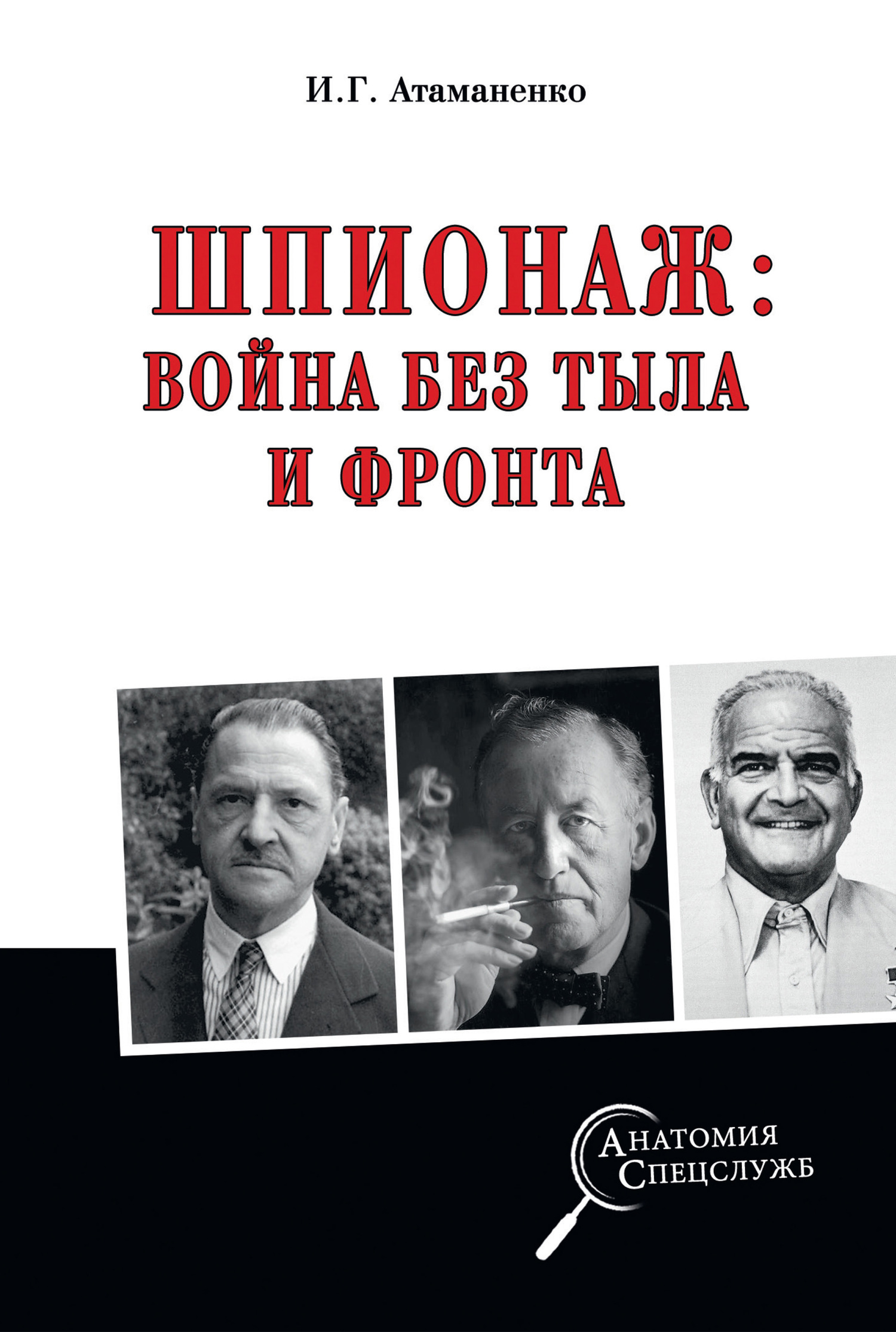Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Мне довелось многое подсмотреть и в разведке, и в жизни», — пишет М. Любимов. В этой книге он рассказывает и о террористических акциях НКВД — КГБ за рубежом, и о методах агентурной вербовки и слежки, и о многом другом, составившем историю советской разведки, очевидцем и хроникером которой явился автор. «Подсмотрим» же и мы, читая эту своеобразную энциклопедию разведки, основанную не только на личных воспоминаниях, но и на редких, порой уникальных свидетельствах…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Петрович Любимов»: