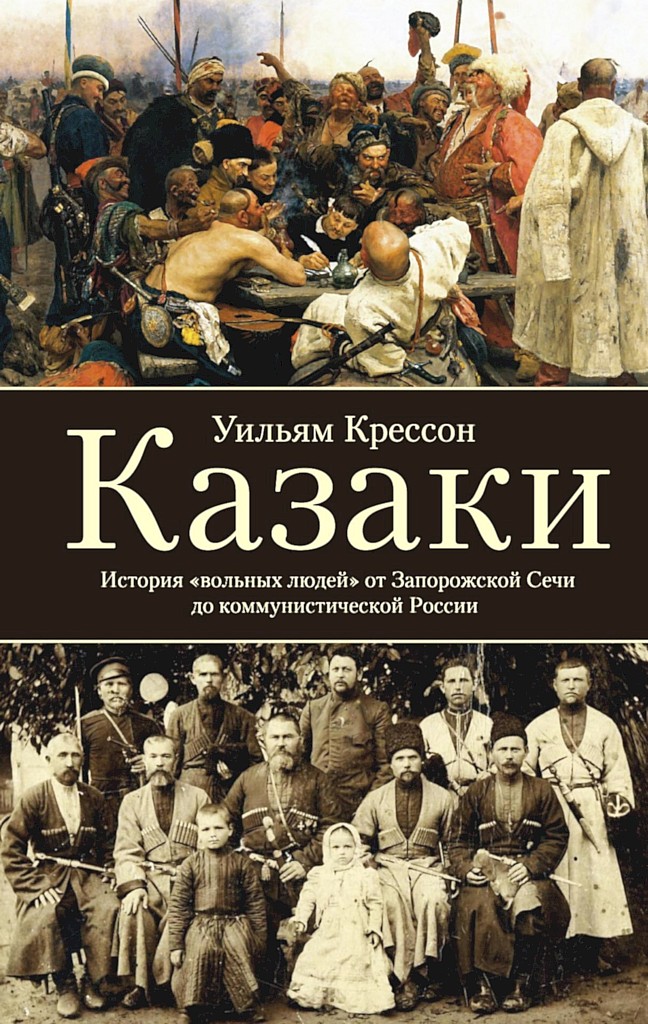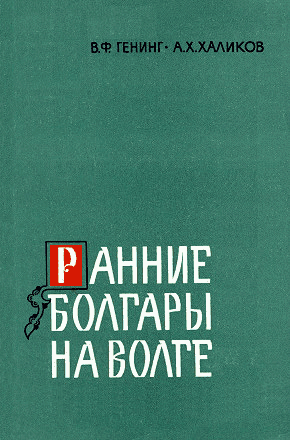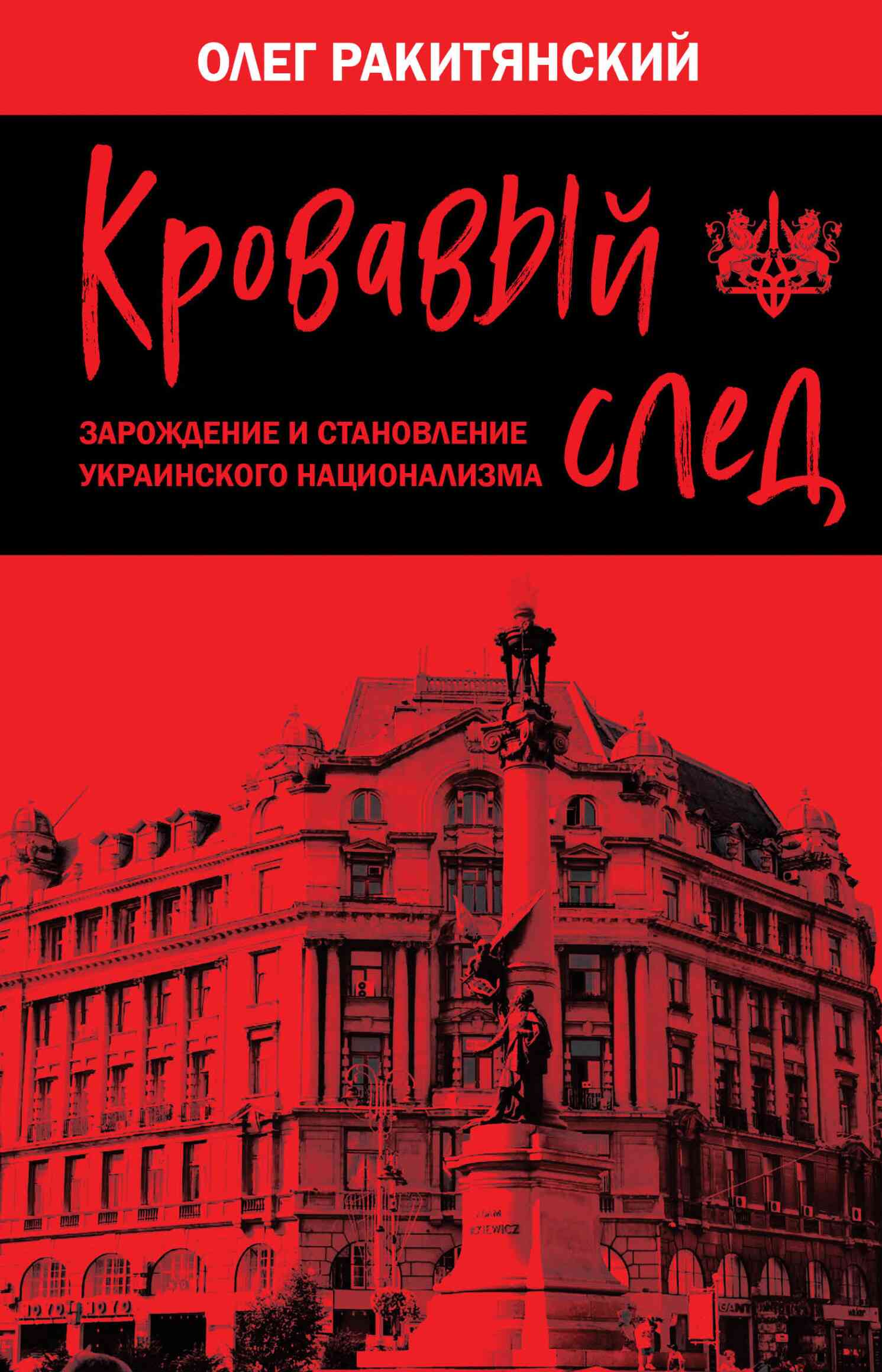Шрифт:
Закладка:
«Традиционная задача империи – воспитывать своих подданных в постоянном унижении, невежестве, побоях и безволии, – писал великий русский художник Илья Ефимович Репин (1844–1930) в начале прошлого века. – У нас везде темно, очень темно… Свету трудно пробиться в эту тьму административного невежества и тупого давления, набрасывающегося на всякую светлую мысль, клеймящего позором всякое свободное слово».Выходец из самых низов общества, Репин хорошо знал русскую жизнь, ее светлые и темные стороны. В своих заметках, письмах, воспоминаниях, вошедших в данную книгу, он писал о величии русского народа, о служении Родине и жертвенности его лучших представителей, – но, в то же время, о «пресмыкающихся гадах обскурантизма, прислужниках подлых давил» и «оскотевших рабах, способных лишь хищничать и подхалимствовать».«Побольше свету!» – призывал Репин. Он был уверен, что Россия еще всколыхнется, «когда здесь появится новое потомство сильных, с новыми запросами деятелей».В формате a4.pdf сохранен издательский макет.