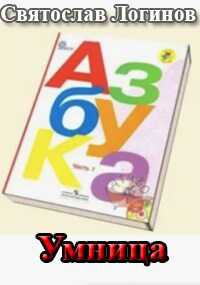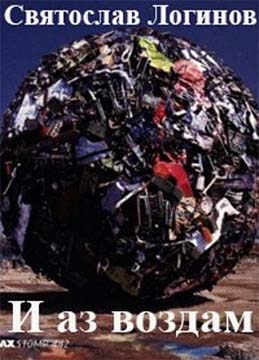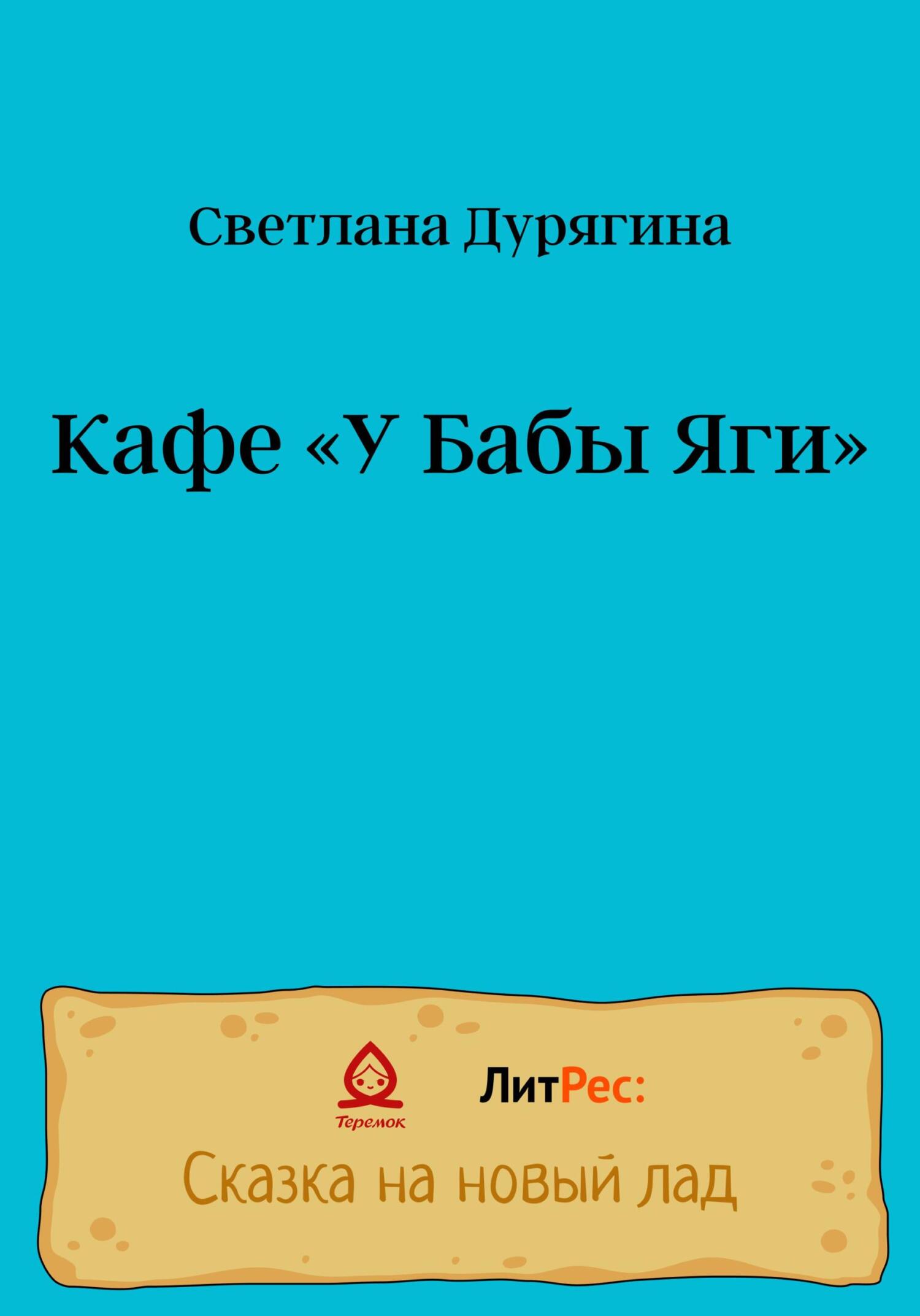Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Раз в год деревенские женщины обходят деревню, чтобы предохранить жителей от мора, неурожая и падежа скота. Только они могут остановить нечисть, которая выползает на волю в эту ночь.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Святослав Владимирович Логинов»: