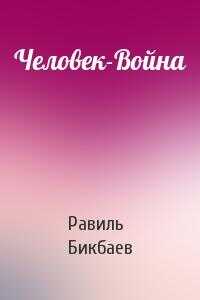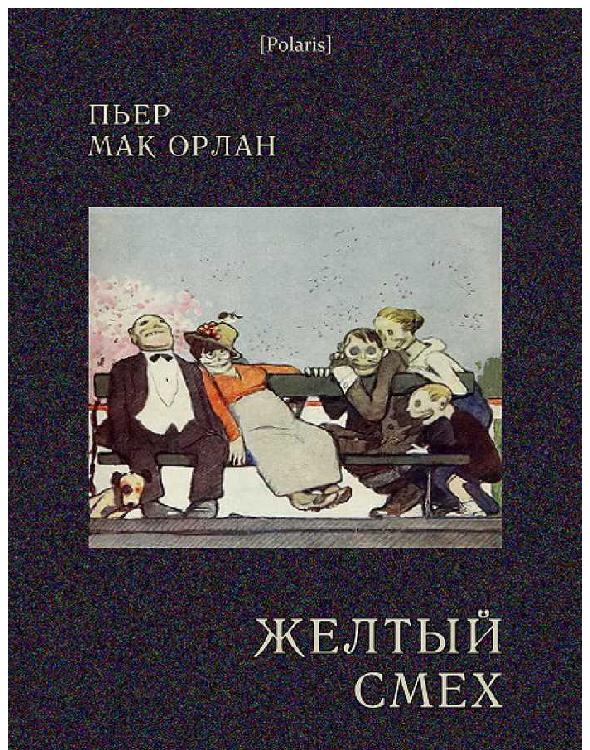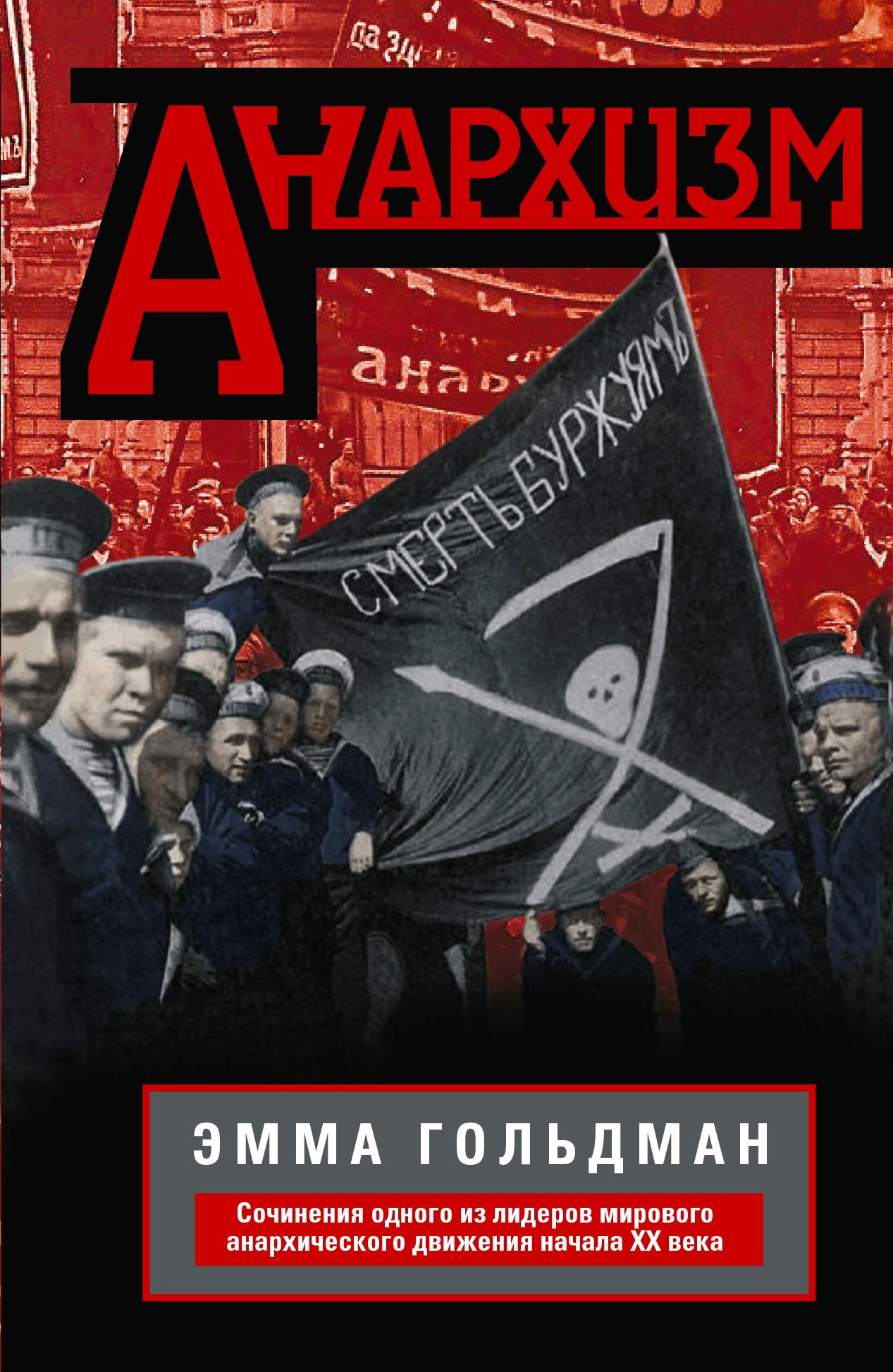Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Вниманию читателей представляется два рассказа: «Гори, гори моя звезда» и «Suum cuique — Каждому своё». Написаны под впечатление участия в семинаре писателей в Переделкино. Внимание в тексте встречается: сцены употребления алкогольных напитков; и чуть-чуть ненормативной лексики.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Равиль Нагимович Бикбаев»: