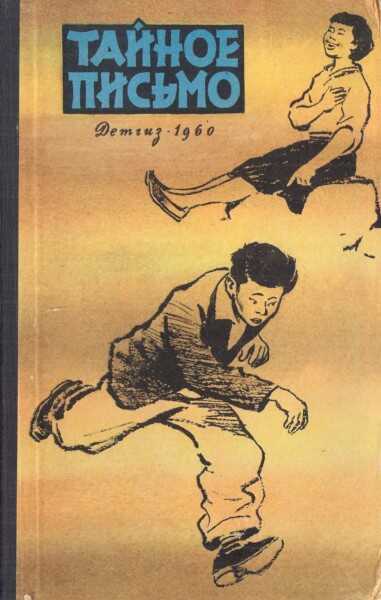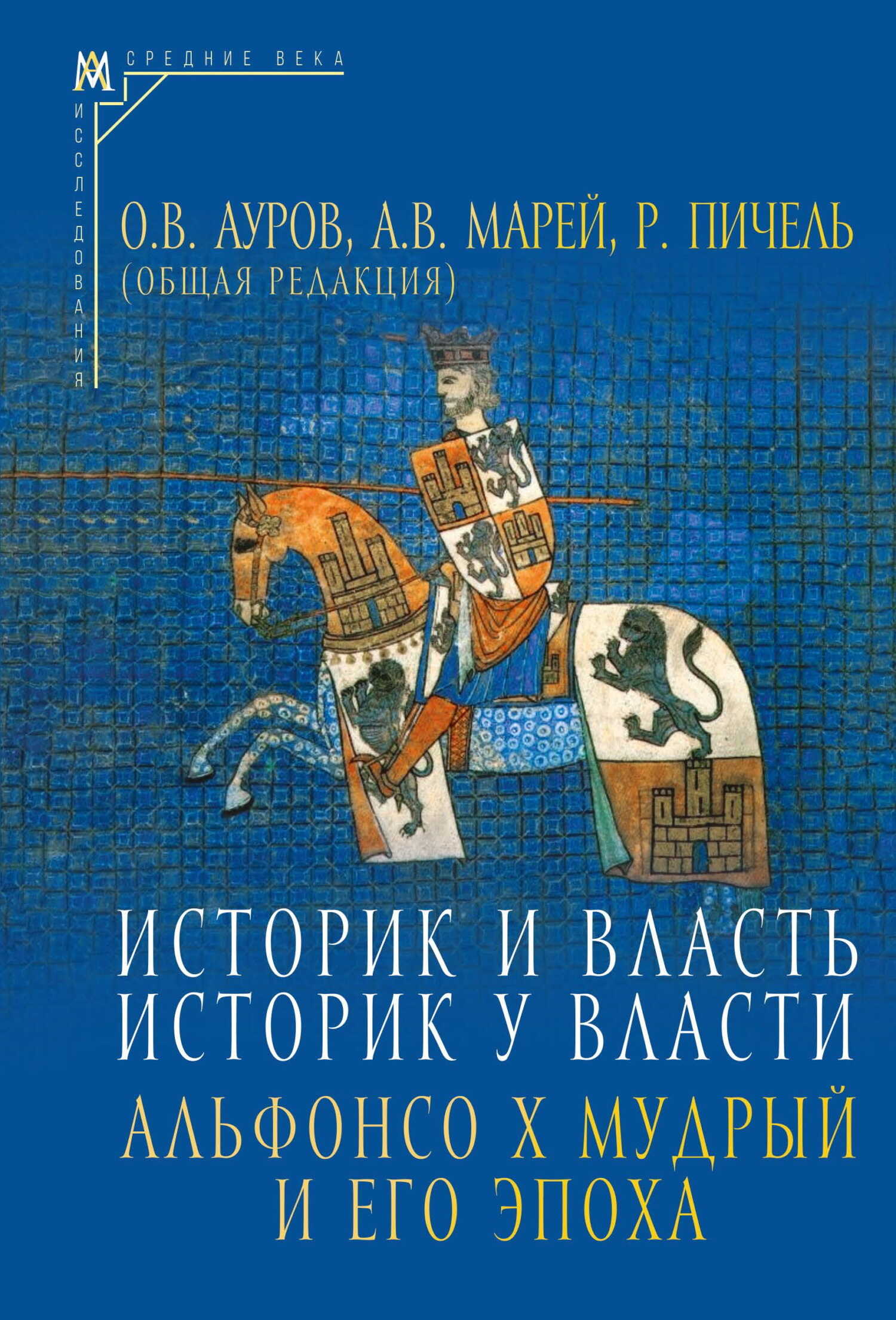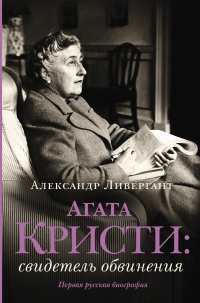Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В «Национальном предрассудке» российский читатель прочтет, причем впервые, все самое интересное и значительное, что было написано в английской нехудожественной литературе за последние 500 лет. А впрочем, можно ли считать литературой нехудожественной дневники Вирджинии Вулф, Генри Джеймса и Ивлина Во, эссе Честертона и Пристли, письма Свифта, Стерна, Китса и Джойса, Хаксли и Лоуренса, путевые очерки Смоллетта, Бернарда Шоу и Грэма Грина – в общей сложности более тридцати крупнейших английских писателей прошлого и настоящего.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Коллектив авторов»: