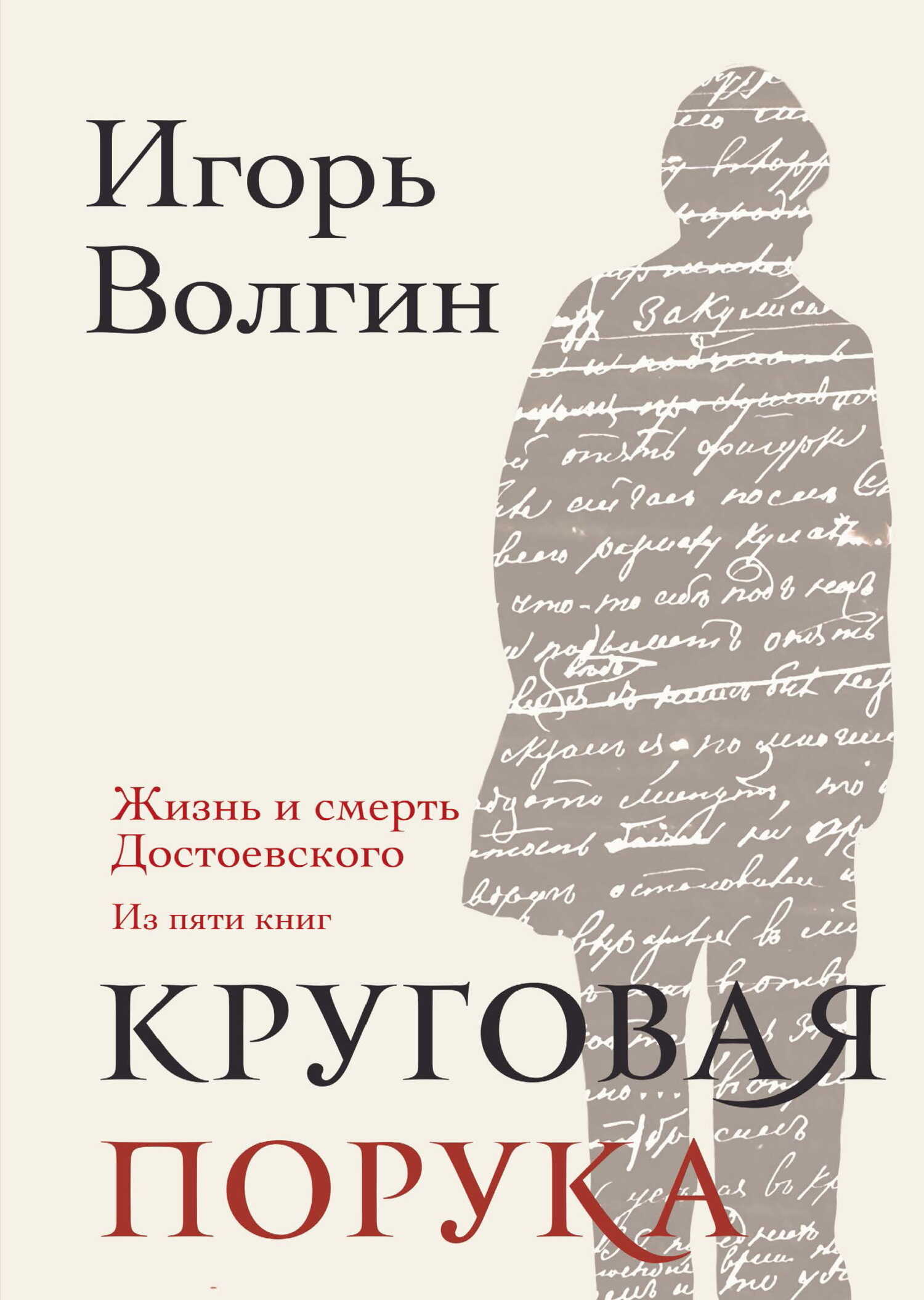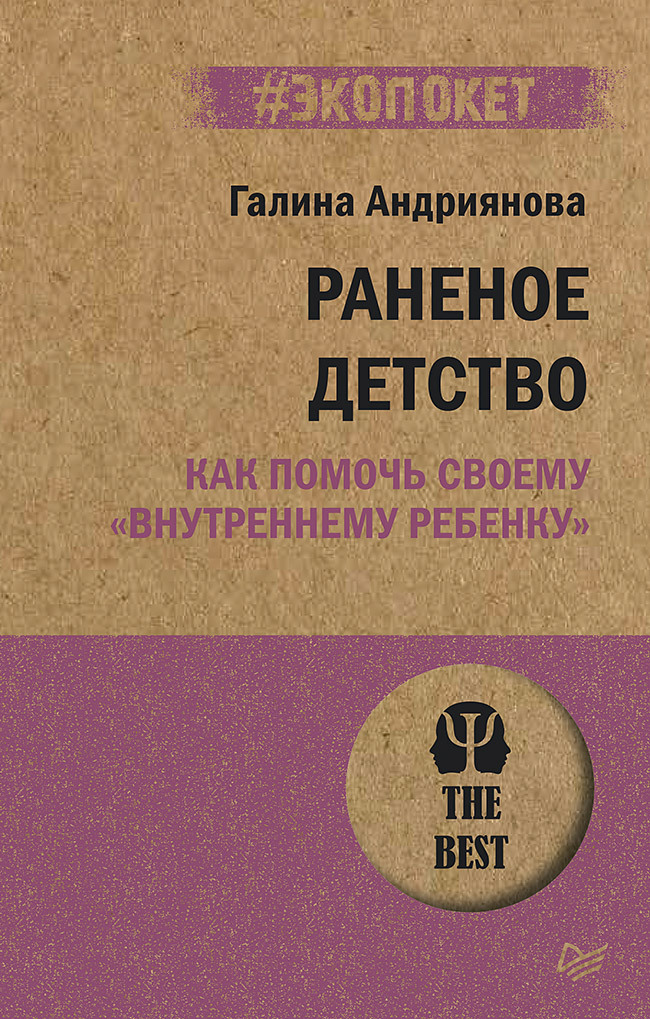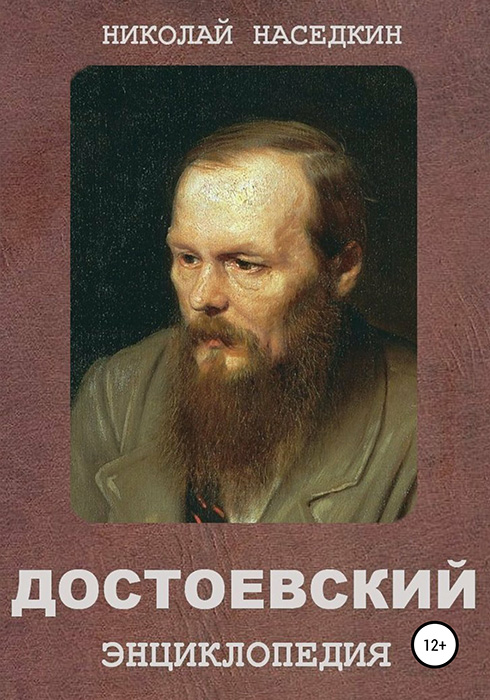Шрифт:
Закладка:
Но, с другой стороны, Достоевскому жалко упускать такой почти воплотившийся сюжет. Поэтому он предельно схематизирует ситуацию, даёт, так сказать, некий обобщённый образ. Старики – герои моральной притчи, они – персонажи нарицательные, и их собственные имена не так уж важны. Действие совершается, но сами действующие лица остаются неназванными.
Все эти предосторожности оказались совсем не лишними: Тургенев, как мы помним, очень скоро признается, что Речь Достоевского ему «противна».
Допустим теперь, что старики – вполне реальные люди и что сцена, описанная Достоевским, в точности соответствует действительности. Что же тогда? Тогда мы имеем выразительную смысловую рифму: зеркальность эпизодов, схожее поведение двух пар стариков – момент почти художественный.
Как бы там ни было, велик соблазн закончить «историю одной вражды» трогательной сценой примирения, хотя бы и внешнего. Но, увы, это невинное желание трудноисполнимо. Существует документ, заставляющий нас усомниться даже в таком формально благополучном финале.
Последняя встреча, или Русский человек на rendez‑vous [1368]
Мы имеем в виду воспоминания Е. Н. Опочинина, в которых автор описывает свою московскую встречу с Достоевским. Встреча эта произошла, как он говорит, «после открытия памятника Пушкину и знаменитой речи».
Достоевский покинул Москву 10 июня утром: следовательно, встреча могла иметь место только 9 июня.
«Я встретил его у Никитских ворот, – говорит Опочинин, – и пошёл с ним по бульвару. Фёдор Михайлович смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно.
– Устал я что-то, – заметил он, когда мы прошли с сотню шагов по бульвару. – Давайте сядем».
Они садятся и продолжают беседу.
«А-а-а, Фёдор Михайлович! – послышался радостный голос с боковой аллейки позади нас, и вдруг перед нашей скамьёй выросла монументальная фигура И. С. Тургенева».
Тургенев присаживается рядом с Достоевским. «Занятый своими мыслями, – продолжает Опочинин, – я не прислушался к разговору… но с последними словами, которые медоточиво пропел Тургенев, я вдруг заметил, что Достоевский встал со скамьи. Лицо его было бледно, губы подёргивались.
– Велика Москва, – сердито бросил он своему собеседнику, – а от вас и в ней никуда не скроешься! – И, отмахнувшись рукой, зашагал по бульвару»[1369].
Сразу же оговоримся: если сам факт, приводимый Опочининым, весьма правдоподобен, то некоторые сомнения возникают относительно его датировки.
Следует иметь в виду, что день 9 июня оказался для Достоевского очень насыщенным[1370]. Днём он отдавал необходимые визиты. С утра же, по просьбе фотографа М. М. Панова, отправился к нему в мастерскую, где и был сделан тот знаменитый снимок, о котором мы говорили в главе «Портрет с натуры».
Анна Григорьевна считала эту фотографию «наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных (благодаря изменчивости настроения)» изображений её мужа. Она говорит, что на этом портрете она «узнала то выражение, которое видала много раз на лице Фёдора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья»[1371].
Анне Григорьевне приходится верить, хотя, признаться, особой «радости», а тем более «счастья» на лице Достоевского не заметно. Скорее следует согласиться с И. Н. Крамским, полагавшим, что «по этой фотографии можно судить, насколько прибавилось в лице Достоевского значения и глубины мысли»[1372]. Но, может быть, именно такое выражение и означало у него счастье?
Во всяком случае, 9 июня он бесспорно испытывал сильный душевный подъём. И свидетельство Опочинина, что Достоевский «смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно», плохо вяжется с переживаемым моментом. Трудно избавиться от подозрения, что воспоминатель просто путает числа и описанная им встреча произошла не после, а до Пушкинской речи.
Но, с другой стороны, в пользу Опочинина (точнее, в пользу его хронологии) говорят некоторые детали. Во-первых, в разговоре с ним Достоевский упоминает Ивана Аксакова и жалеет, что он только теперь по-настоящему его узнал. Эти слова, конечно, могли быть произнесены и до 9 июня, но после вчерашних аксаковских восторгов 9‑е – дата очень подходящая.
Во-вторых, никем ещё не доказано, что нельзя быть усталым и даже понурым в момент величайших духовных взлётов. Вчерашний день измотал триумфатора: на той же фотографии Панова он выглядит (с житейской точки зрения) далеко не лучшим образом.
Кроме того: что могло так взорвать Достоевского? Уж не пытался ли Тургенев в этой – под липами Никитского бульвара – беседе несколько подкорректировать свои вчерашние оценки и «медоточиво» указать собеседнику на его идейные промахи? И не почувствовал ли Достоевский в словах Тургенева первые признаки той журнальной бури, того отбоя, которые обрушатся на его Речь и на него самого буквально через несколько дней?
Но Е. Н. Опочинин был занят своими мыслями и – «не прислушался». Когда свидетель событий рассеян, историку ничего не остаётся, как строить гипотезы.
И, наконец, самое капитальное. Если бы размолвка на бульваре произошла до 9 июня, такой факт, вне всякого сомнения, нашёл бы отражение в письмах Анне Григорьевне. Но там на это нет и намёка. Если принять хронологию Е. Н. Опочинина, тогда всё понятно: последнее письмо из Москвы написано 8‑го вечером; о том же, что происходило 9‑го, он уже рассказывал жене лично.
Достоевский уходит от Тургенева, «отмахнувшись». После вчерашних объятий это выглядит грустно.
Итак, как бы нам ни хотелось обратного, есть серьёзные основания полагать, что их последняя встреча (или, если угодно, расставание – перед вечной разлукой) произошла при обстоятельствах, не вполне приличествующих случаю. Не умильная слеза и не взаимное раскаяние двух «седых стариков» сопровождает последний акт этой исторической распри. Достоевский, уходя в вечность, даёт «отмашку» Тургеневу: несмотря на неизящность жеста, он более (чем, скажем, воздушный поцелуй) соответствует характеру их отношений.
Конечно, в высшем смысле ни Достоевскому не дано «отмахнуться» от Тургенева, ни Тургеневу – умалить Достоевского. Они останутся навсегда рядом – как писатели и как люди, – являя разные, но в равной мере значительные исторические надежды, боль, упование и урок. И пусть они ещё раз не поймут друг друга на том московском бульваре (как не понимали всю жизнь), у них всё же остается шанс. Ибо и тот и другой – оба дети России, страны, где молодые люди способны грохаться в обморок от «мировых вопросов», где у седых стариков под влиянием всё тех же вопросов достаёт сил заключить друг друга в искупительные объятья. Да, оба они – разумеется, в высшем смысле – могут вписаться в ту идеальную картину, которая явилась одному из них, и, как мы сейчас убедимся, имела некоторые аналоги в реальной жизни.
Для этого следует отступить в один боковой сюжет.
Глава XVII
Семья и дети
Поздний отец
Он был поздним отцом: ему шёл сорок седьмой год, когда двадцатиоднолетняя Анна Григорьевна разрешилась первым ребёнком.
Это произошло в Женеве.
Он страшно волновался за исход родов, бегал за акушеркой, горячо молился. Когда родилась девочка, его восторгам не было предела. Акушерка даже шепнула роженице, что за всю её многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца «в таком волнении и расстройстве».
«К моему большому счастью, – пишет Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки