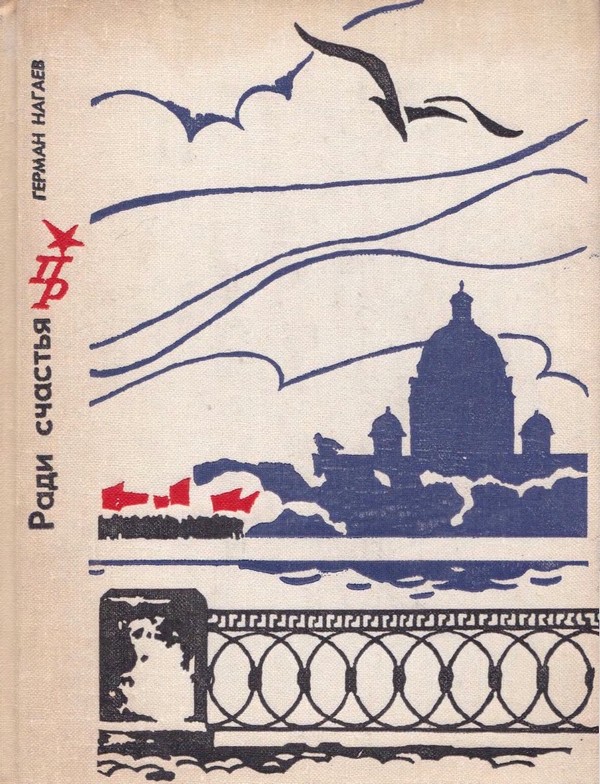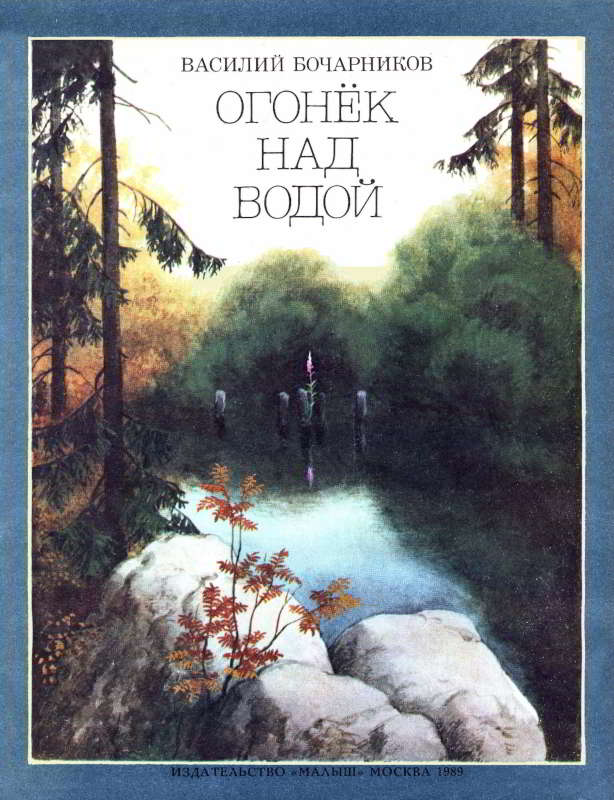Шрифт:
Закладка:
Кто был Сергей Киров? Как он стал одним из самых влиятельных и любимых лидеров Советского Союза? Какие испытания и трудности он преодолел на своем жизненном пути?
В этой книге вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Автор рассказывает увлекательную историю о жизни и деятельности Сергея Кирова – выдающегося революционера, партийного и государственного деятеля, первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б).
Вы узнаете о его детстве и юности, о его участии в революционном движении, о его работе в разных регионах страны, о его вкладе в развитие промышленности, культуры и образования. Вы прочтете о его отношениях с другими лидерами партии и государства, о его верности идеалам коммунизма, о его любви к народу. Вы окунетесь в атмосферу эпохи, полную перемен, надежд и борьбы.
«Ради счастья. Повесть о Сергее Кирове» – это захватывающая биографическая повесть, которая поможет вам лучше понять историю и дух Советского Союза.