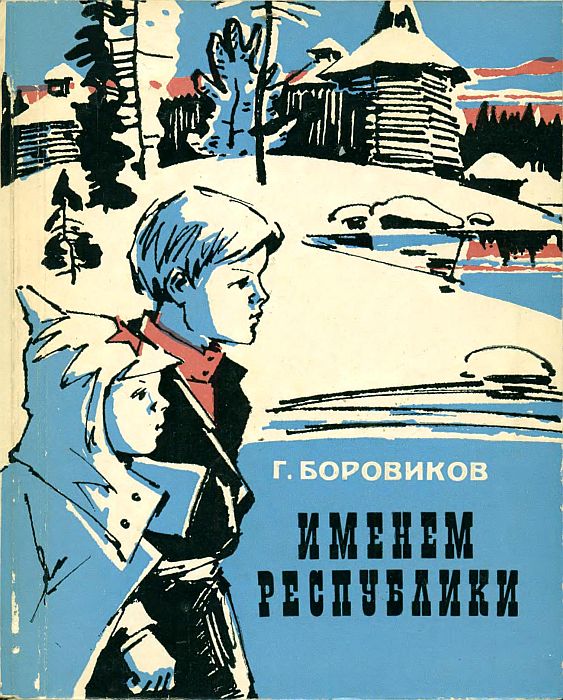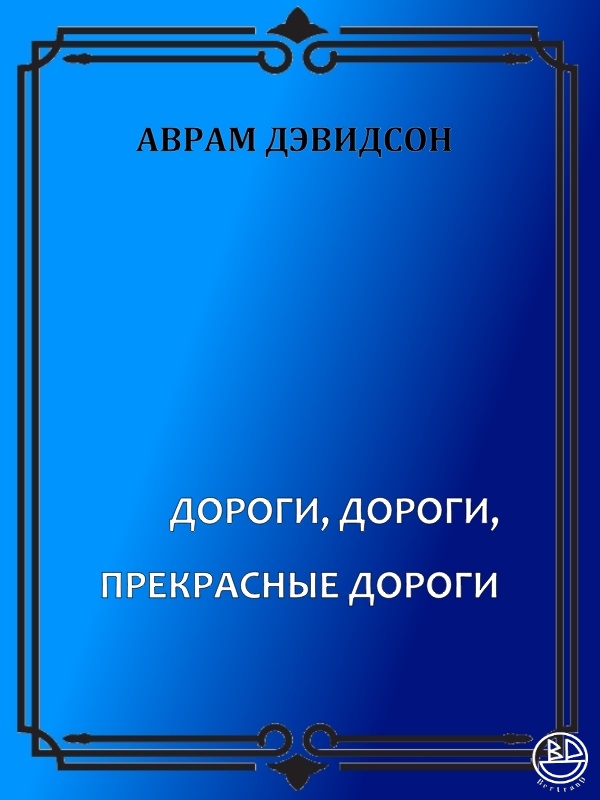Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Повесть о первых годах революции. Главные герои повествования — деревенские мальчишки, помогающие взрослым найти спрятанные церковные ценности и обезвредить опасного преступника.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Григорий Фёдорович Боровиков»: