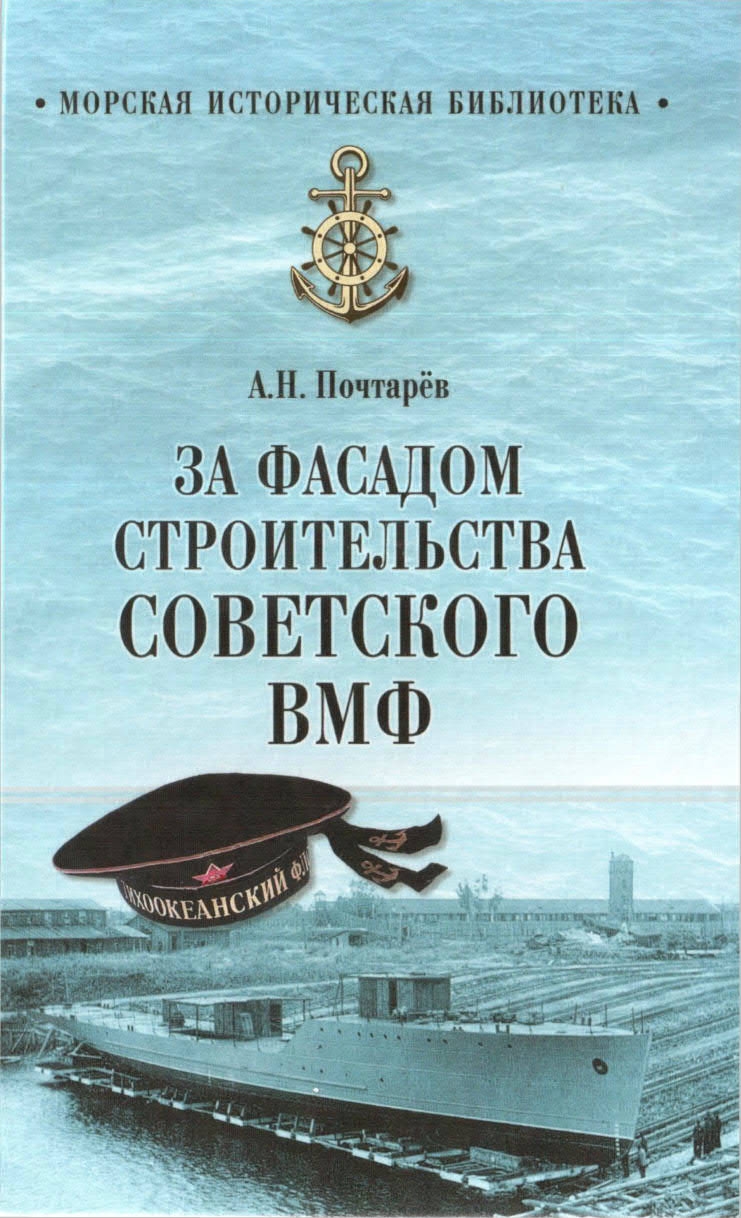Шрифт:
Закладка:
Познание истории через жизнь конкретного человека и преломление жизни человека через призму истории его родины — тот художественный прием, к которому прибег ленинградский писатель Анатолий Томилин в романе, посвященном судьбе Федора Соймонова — сподвижника Петра Великого, мореплавателя, государственного деятеля послепетровского времени — «эпохи дворцовых переворотов», арестованного и осужденного по делу Волынского.Взгляд автора на период русской истории, известный под страшным словом «бироновщина», несколько иной, чем в книгах «Ледяной дом» Лажечникова и «Слово и дело» Пикуля. Добро, любовь, творческая работа, осмысленная плодотворная жизнь — все это, как показывает автор, существовало и в жесточайших условиях царствования Анны Иоанновны. Автор исследует причину, почему Россия после Петра не пошла по пути европейских демократий, а стала традиционной монархией.