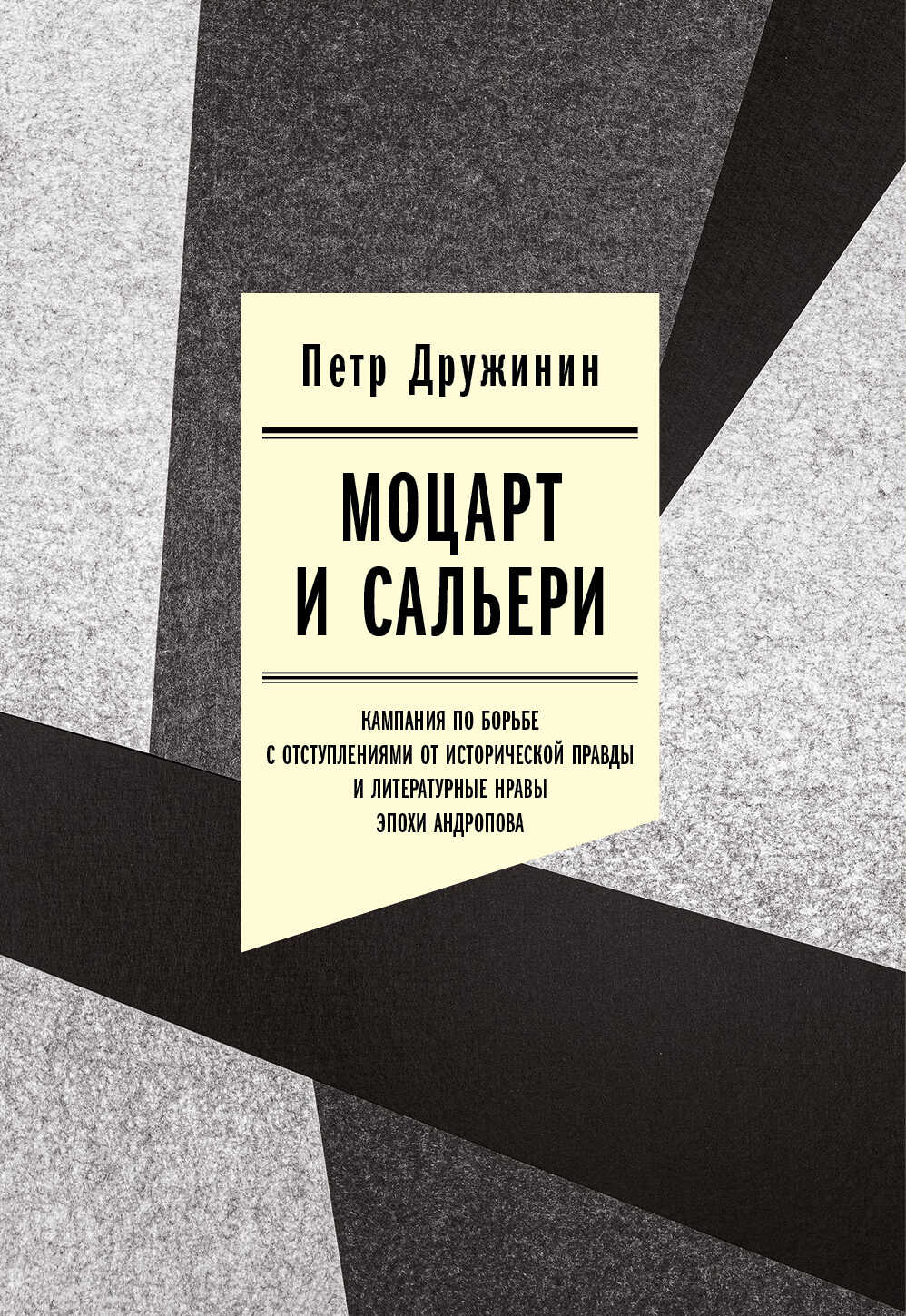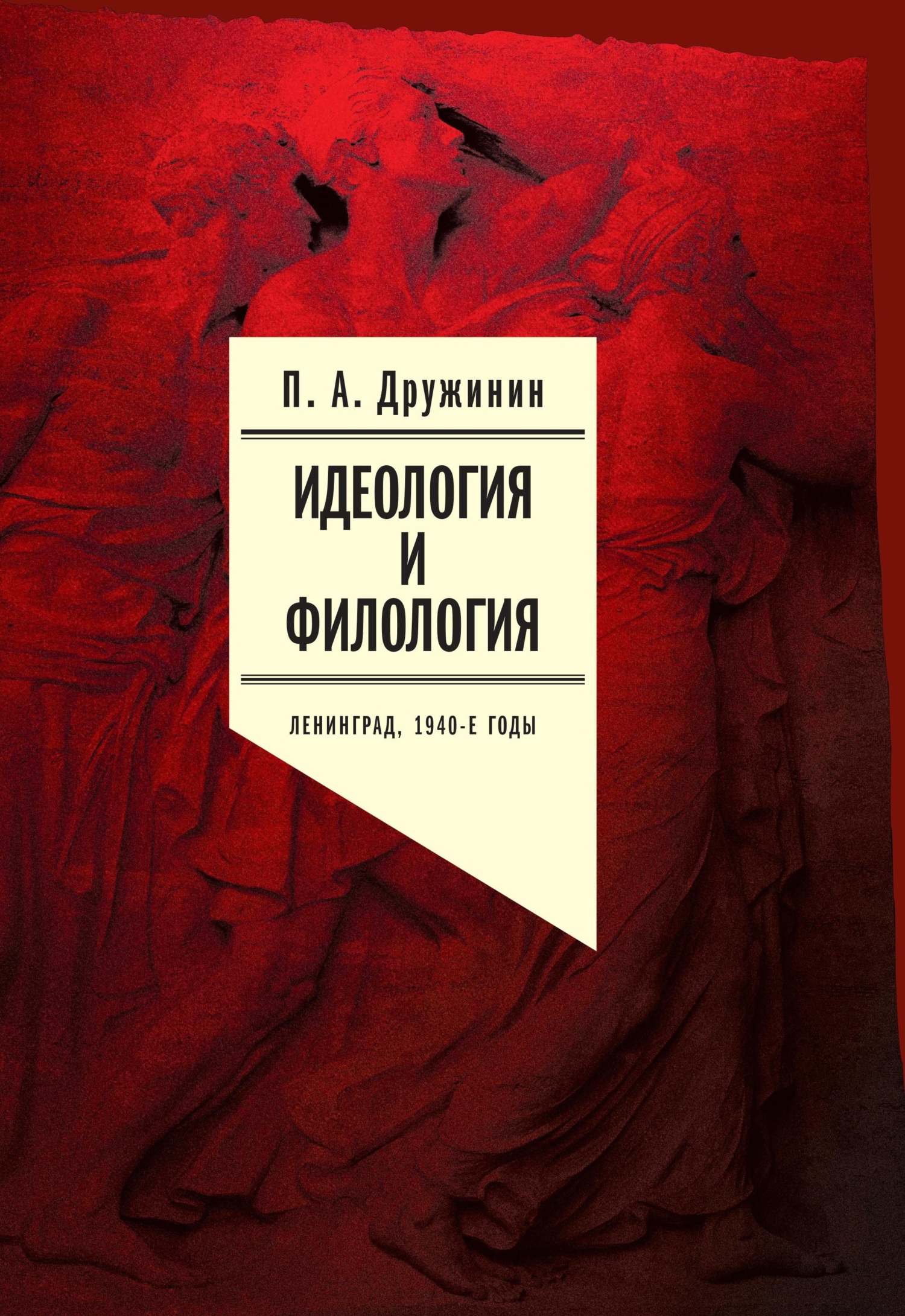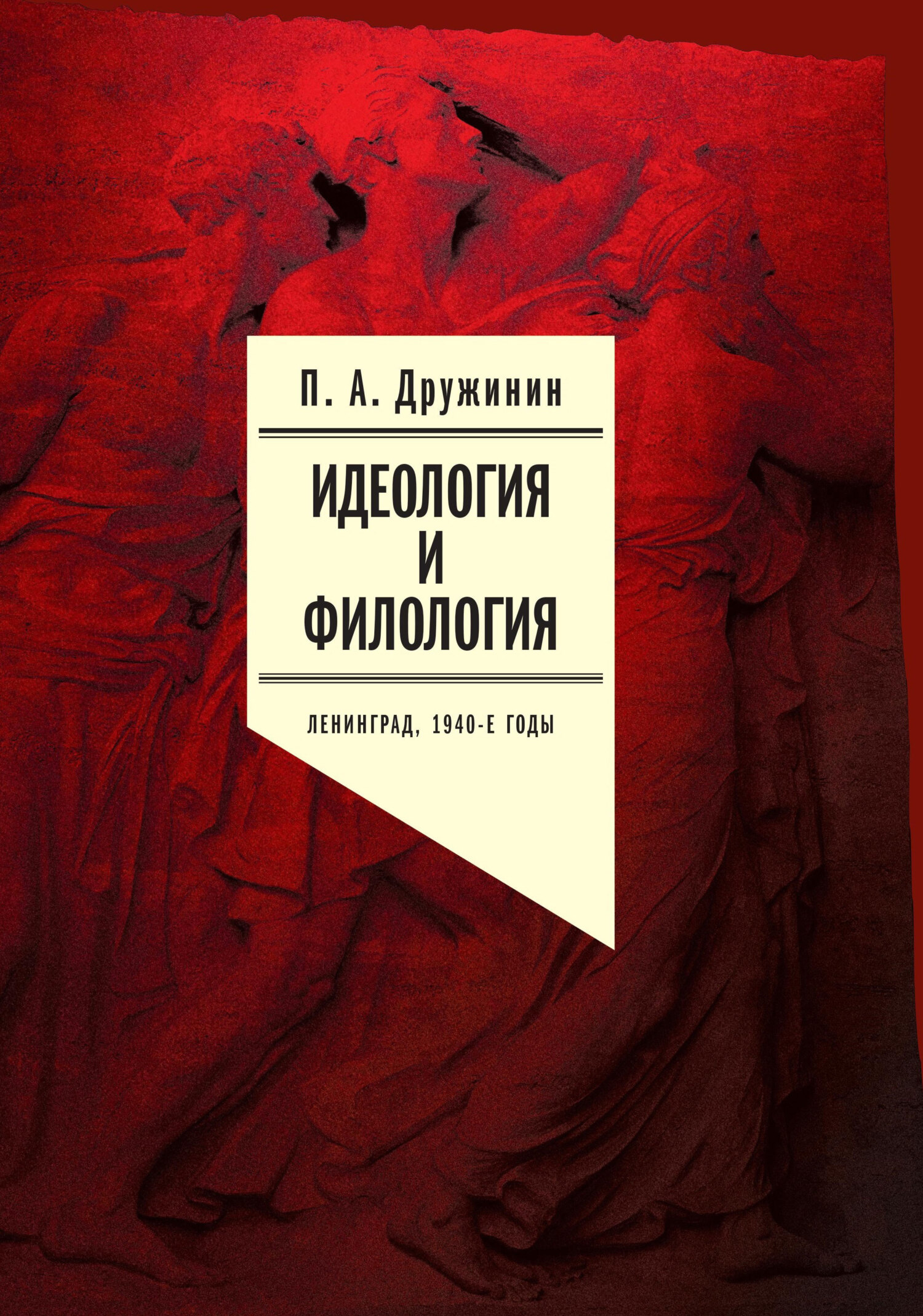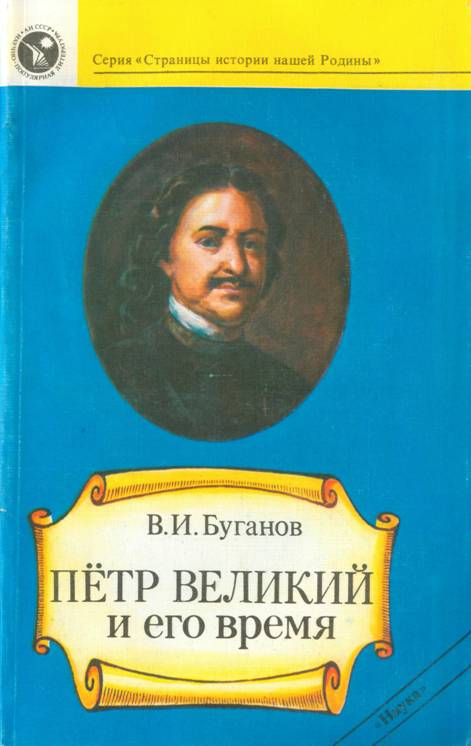Шрифт:
Закладка:
Книга П. А. Дружинина посвящена наиболее драматическим событиям истории гуманитарной науки ХХ в. 1940-е гг. стали не просто годами несбывшихся надежд народа-победителя; они стали вторым дыханием сталинизма, годами идеологического удушья, временем абсолютного и окончательного подчинения общественных наук диктату тоталитаризма. Одной из самых знаменитых жертв стала школа науки о литературе филологического факультета Ленинградского университета. Механизмы, которые привели к этой трагедии, были неодинаковы по своей природе; и лишь по случайному стечению исторических обстоятельств деструктивные силы устремились именно против нее. На основании многочисленных, как опубликованных так и ранее неизвестных источников автор показывает как наступала сталинская идеология на советскую науку, выявляет политические и экономические составляющие и, не ограничиваясь филологией, дает большую картину воздействия тоталитаризма на гуманитарную мысль.