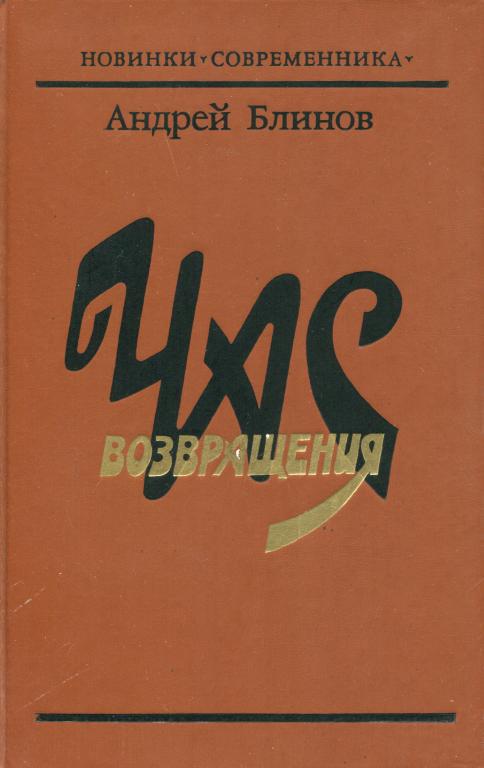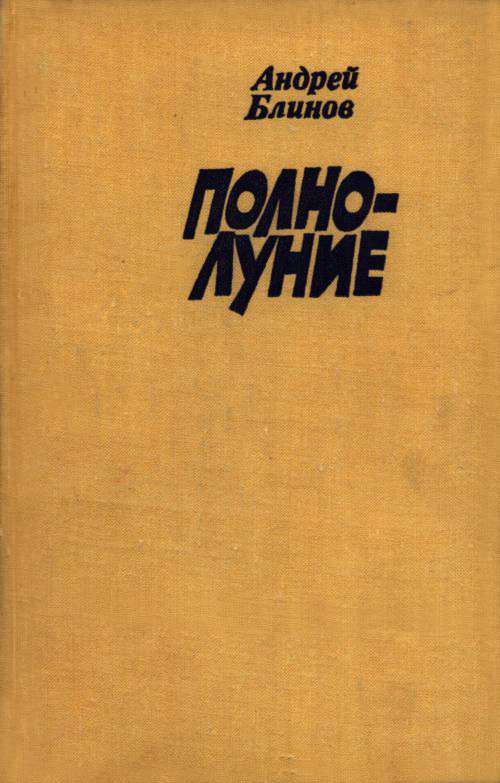Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новую книгу известного прозаика Андрея Блинова вошли роман и рассказы. О разных людях повествуют они, несхожие жизненные ситуации взяты писателем. Во всех этих произведениях автор напряженно размышляет о человеке, о его месте в сегодняшнем мире.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Дмитриевич Блинов»: