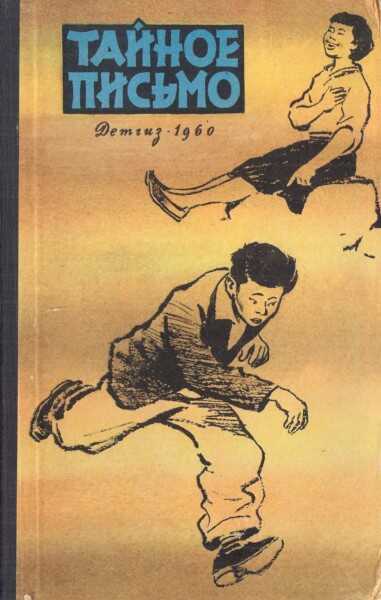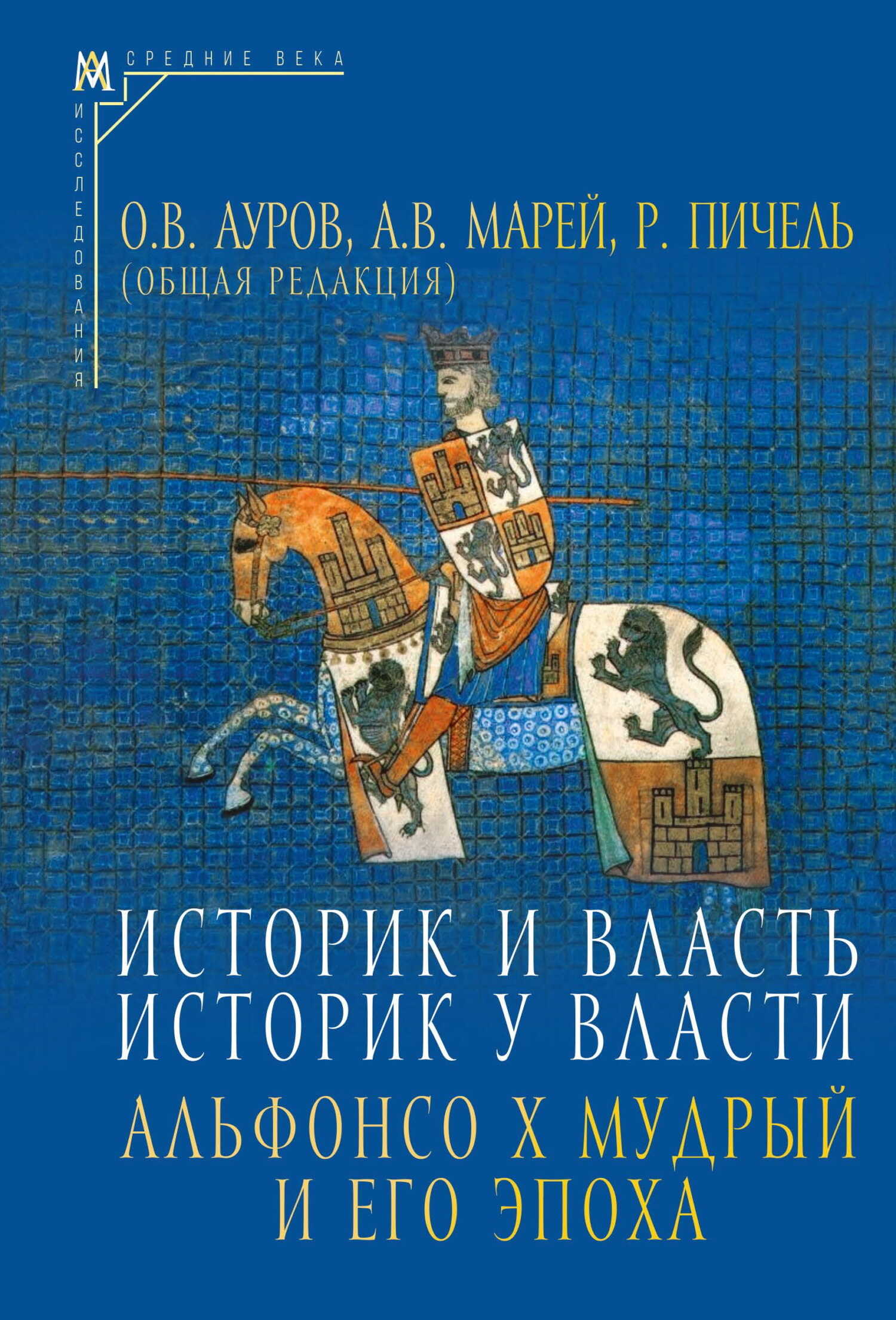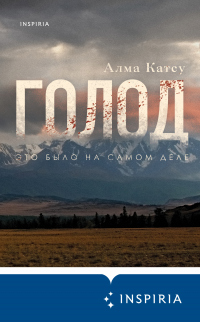Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
17 текстов, победивших в литературном опен-колле МИФа. Все произведения объединены темой выбора. Кофе или чай? Соцсети или книга? Быть честным или благоразумным? От наших решений зависит завтра, а вместе с этим и вся жизнь. Участники конкурса рассказывали о своем опыте или о том, что никогда не происходило с ними. О том, какая цепочка событий потянулась за (может быть) случайным решением. О том, как взмах крыла бабочки стал причиной тайфуна на другом конце света. Получилось свежо, талантливо, неожиданно.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Коллектив авторов»: